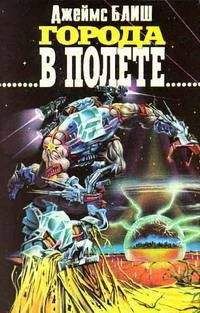- Залог внести, очень просто, - отвечала тетка Павла.
- Для сохранения его достоинства? - почти гневно вскричал Теркин. - Почему же господа дворяне не сложатся?
- Я бы внес, - выговорил обидчиво Черносошный и поднял высоко голову, - но у меня таких денег нет... Вы это прекрасно знаете, Василий Иваныч. Во всяком случае, товарищ ваш осрамлен. Простая жалость должна бы, кажется... Тем более что вы при свидании обошлись с ним жестковато. Не скрою... он мне жаловался. Следственно, ему обращаться к вам с просьбою - слишком чувствительно. Но всякий поймет... всякий, кто...
- Белой костью себя считает! - воскликнул Теркин и, проходя мимо Ивана Захарыча к двери, бросил ему: - Извините, я сказал, что умел; а теперь мне умыться с дороги нужно.
Глаза Павлы Захаровны уставились на Саню, сидевшую в стесненной позе, и говорили ей:
"Радуйся, милая, за хама идешь. Дворянина ты и не стоишь".
На широкой немощеной улице ветер взбивал пыль стеной в жаркий полдень. По тротуару, местами из досок, местами из кирпичей, Теркин шел замедленным шагом по направлению к кладбищенской церкви, где, немного полевее, на взлобке, белел острог, с круглыми башенками по углам.
Он пошел нарочно пешком из своей въезжей квартиры. Вчерашнее объяснение с семейством Черносошных погнало его сегодня чем свет в город. За обедом разговор шел вяло, и все на него поглядывали косо; только Саня приласкала его раза два глазами.
С нею он погулял в парке и сказал ей, когда они возвращались на террасу:
- Вы, Саня, не думайте, что у вашего жениха хамские чувства; только я не жалую, чтобы мне в душу залезали.
Саня только вздохнула и ничего не промолвила. Она стояла за него, но боялась высказываться - как бы "не наговорить глупостей".
Всегда утром при пробуждении совесть докладывает, в чем он провинился. Сильно не понравилось ему самому, как он повел разговор в гостиной; едва ли не сильнее недоволен он был, чем своей встречей и перебранкой с Петькой Зверевым, здесь в городе, на его - тогда еще предводительской - квартире.
И однако он ничем тогда не загладил своего мальчишества и обидчивой резкости и просто "озорства", каков бы ни был сам по себе Петька.
Как-никак, а тот первый повинился ему. Ну, он расхититель сиротских денег, плут и даже поджигатель; но разве это мешало ему - Ваське Теркину - тому товарищу, пред которым Петька преклонялся в гимназии, быть великодушным?..
"Душонка-то у меня, видно, мелка!" - вырвалось у него восклицание под конец утренних счетов с совестью. И тотчас же приказал он закладывать, а в девятом часу был уже в городе.
Узнал он от хозяев, что предводителя держат чуть не в секретной, что следователь у них - лютый, не позволял Звереву в первую неделю даже с больной женой повидаться; а она очень плоха. Поговаривали в городе, будто даже на себя руки хотела наложить... И к нему никого не пускали.
Надо было начать с визита следователю. Не раньше десяти тот проснулся. Теркину пришлось долго и убедительно рассказывать, кто он, и выгораживать всякую возможность стачки с подсудным арестантом.
- Положим, мы с ним вместе учились; но ведь он своим пожаром спалил у компании лесу с лишком на десять тысяч.
Этот довод подействовал на следователя больше всего остального.
- Так что же вас побуждает видеться с ним?
Из жалости или великодушия? - спросил он не без язвы.
- По человечеству! - выговорил почти смущенно
Теркин.
В следователе он увидал полнейшую фактическую уверенность в том, что Зверев поджег свой завод. Он ничем не проговорился, смотрел вообще "нутряком" с порядочной долей злобности, но по его губам то и дело скользила особого рода усмешка.
Записку тюремному смотрителю Теркин, однако, добыл от него. Следователь, провожая его до двери, сказал ему:
- Вы теперь его не застанете...
- На допрос приведут? - спросил Теркин.
- Нет! Я разрешил ему побывать у больной жены; но к часу своего обеда он должен быть в остроге.
И вот он идет туда пешком, и жалость не покидает его. Поговорка, пущенная им в ход вчера в объяснении с Черносошным: "от тюрьмы да от сумы не открещивайся" - врезалась ему в мозг и точно дразнила. Со дна души поднималось чисто мужицкое чувство - страх неволи, сидения взаперти, вера в судьбу, которая может и невинного отправить в кандалах в сибирскую тайгу.
Справа, около самого тротуара, проплелась в клубах пыли одноконная городская долгушка.
Теркин поднял голову равнодушным жестом
и остолбенел.
Лицом к нему сидел сгорбившись Зверев, в арестантском халате и шапке без козырька; по бокам два полицейских с шашками и у обоих револьверы.
Теркин хотел крикнуть, и у него перехватило в горле.
Зверев узнал его и тотчас же отвернулся... Облако пыли скрыло их.
Сермяжный халат всего больше поразил Теркина. Первое лицо в целом уезде и - колодник еще до суда. Может быть, и понапрасну заподозрен в поджоге? Растрата по опеке еще, кажется, не обнаружена. В сермяге!
Искренно порадовался он за Петьку, что улица была совсем пустая. Только вправо, туда к выезду в поле, тащилась телега, должно быть, с кулями угля.
До самого острога не покидало его жуткое чувство - точно саднило в груди, и ладони рук горели; даже в концах пальцев чувствовал он как будто уколы булавки.
Не больше пяти минут взяло у него с того места, где он увидал долгушку, до ворот острога. Инвалидный солдатик грузно ходил под ружьем, донашивая свое кепи, и служитель сидел на скамье под навесом ворот.
Теркин предъявил ему записку к надзирателю и всунул рублевую бумажку. Тот снял шапку и тотчас же повел его.
В острог попадал он в первый раз в жизни. Все тут было тесно, с грязцой, довольно шумно, - начался обед арестантов, и отовсюду доносился гул мужских голосов.
- Они кушают, - сказал ему тот же старший сторож, остановившись перед дверью камеры, помещенной особенно, в темных сенцах, и звонко щелкнул замком.
Теркин вошел вслед за ним. Сторож захлопнул дверь, но не запер ее.
За столиком, в узкой, довольно еще чистой комнате, Зверев, в халате, жадно хлебал из миски. Ломоть черного хлеба лежал нетронутый. Увидя Теркина, он как ужаленный вскочил, скинул с себя халат, под которым очутился в жилете и светлых модных панталонах, и хотел бросить его на койку с двумя хорошими - видимо своими - подушками.
- Василий Иваныч! Ты! - глухо воскликнул он и сразу не подал Теркину руки.
- Здравствуй, брат! - с невольной дрожью выговорил Теркин и также невольно протянул к нему обе руки.
Они обнялись.
Зверев был красен. На глаза навертывались слезы.
- Ешь! Ешь!.. Ты голоден... Я посижу, - сказал Теркин.
Первой мыслью Зверева при входе Теркина было: "вот, друг любезный, пожаловал на мой срам полюбоваться".
Но когда тот обнял его, он сразу размяк.
Послушно присел он к столу и доел похлебку, потом присел к Теркину на койку, где они и остались. В камере было всего два стула и столик, под высоким решетчатым окном, в одном месте заклеенным синей бумагой.
Говорить про свою вину Зверев упорно избегал, только два раза пустил возглас:
- В поджигатели произвели!
Он полон был не того, что ему предстоит, а негодования на прокурора и следователя, которые "извели" его жену. Когда он был посажен в острог, она в тот же день заболела.
- Не верю я докторам, - шептал он Теркину на ухо. - Они дурачье, олухи, шарлатаны. Толкуют: невропатия, астма какая-то. А я вижу, что она себя опоила чем-то. И не сразу... а, может, каждый день подсыпает себе в их лекарства.
И вот сегодня только допустили его побывать у нее.
- Мерзавцы!.. Крапивное семя!
Он не выдержал и стал всхлипывать:
- Краше в гроб кладут. Как бросилась ко мне!.. И сейчас же обомлела. Столбняк! Не доживет до субботы... Любовь какая, Вася! Понимаешь ты! Кабы ты видел ее! Первая женщина в империи!
Его охватила струя мужского самодовольства, сознания, что из любви к нему женщина отравляется. О том, что из- за нее, для ее транжирства, он стал расхитителем и поджигателем, - он не тужил.
- Для какого черта, - крикнул он и заходил по камере, - для какого черта он меня в колодники произвел, этот правоведишка-гнуснец! Что я, за границу, что ли, удеру? На какие деньги? И еще толкуют о поднятии дворянства! Ха-ха! Хорошо поднятие! Возили меня сегодня по городу в халате, с двумя архаровцами. Да еще умолять пришлось, чтобы позволили в долгушке проехать! А то бы пешком, между двумя конвойными, чтобы тебе калачик или медяк Христа ради бросили!
Губы его брызгали слюной и болезненно вздрагивали. Он опять присел к Теркину, весь как-то ушел в плечи и одну ладонь положил ему на колени.
- Кто старое помянет... Ты знаешь!.. Тогда ты со мной форсить начал, Василий Иваныч... Ну, поквитались!.. От моего ельника и у тебя выдрало сколько десятин. Я тебе мстить не хотел. Извини, брат! Да ведь это не твое собственное, а компанейское... Ну, и то сказать, и попросил я у тебя тоже здорово - сорок тысяч. Имел резон отказать. Только уж очень ты... тогда...