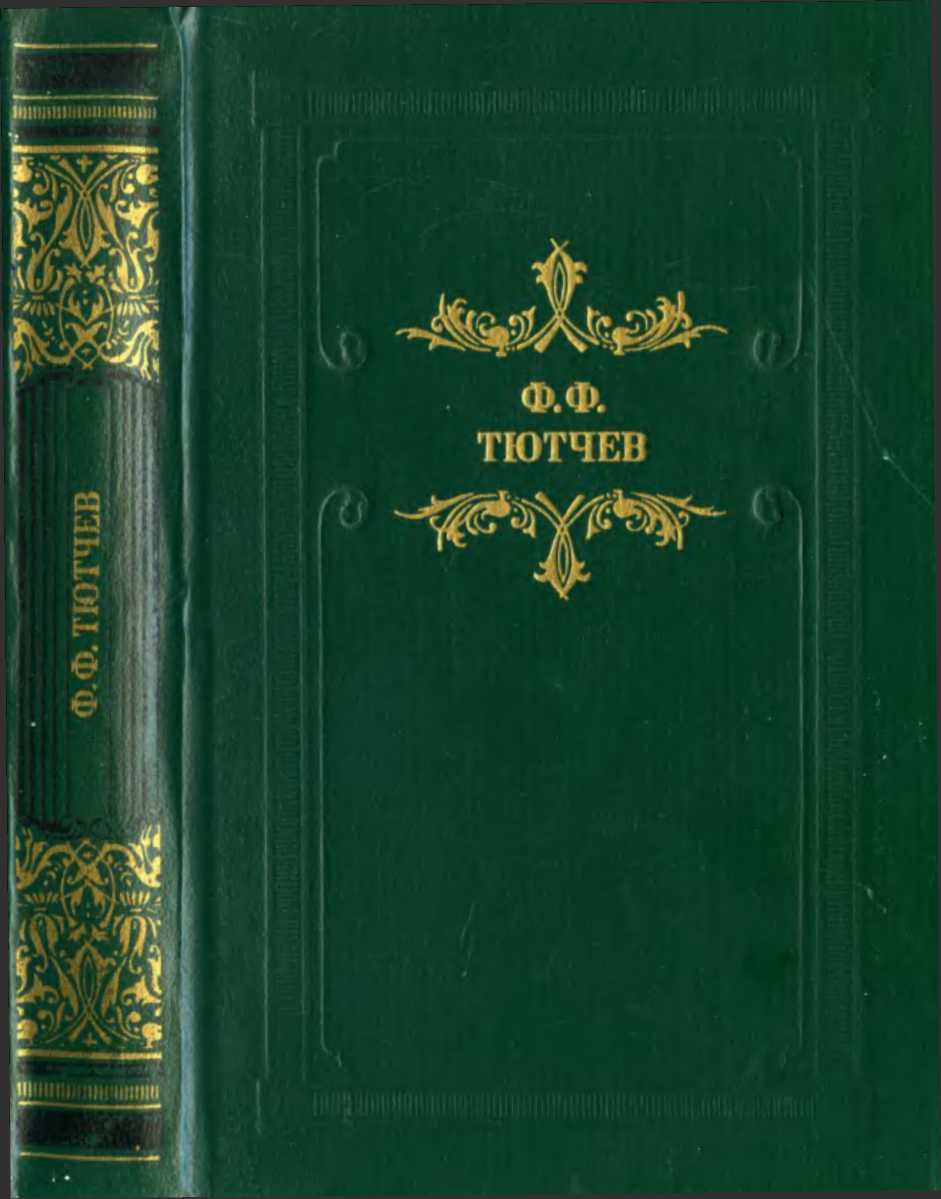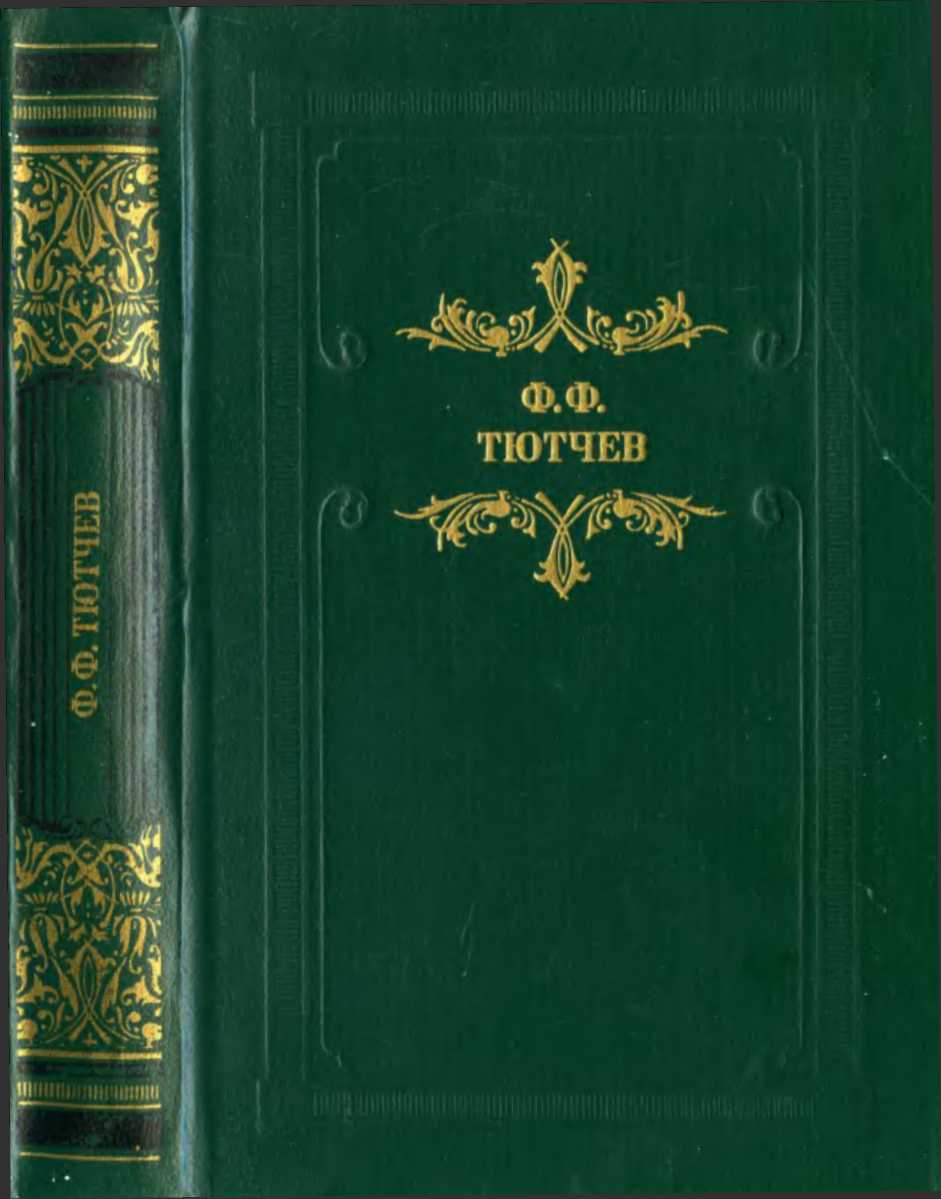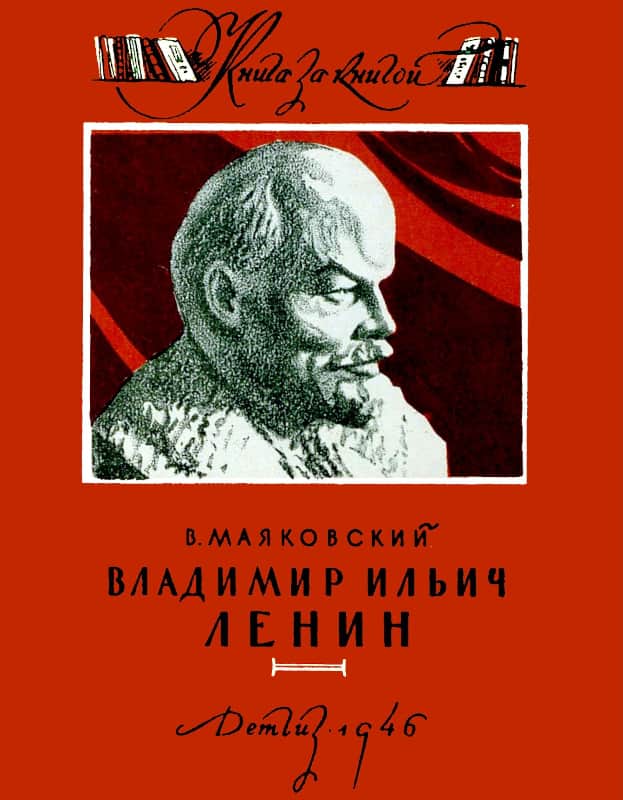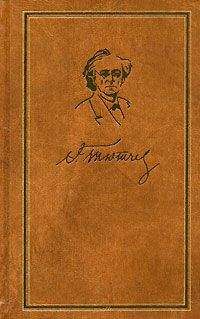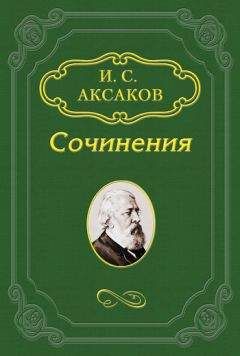Если ты и видела, что я к Петрашам в избу ходил, то вот те Христос, о Маринке у меня и в уме ничего не было, а ходил я к ее отцу, .Мафтею! Хошь верь, хошь нет.
— А ты не врешь? — все еще сомневаясь, но уже другим, ласковым и вкрадчивым тоном спросила Катрынка, заглядывая в глаза Игнату.
— Пошто мне врать? Стало быть, не вру!
— А бог тебя знает! Впрочем, послушай ты вот что: ежели действительно ты меня любишь и жалеешь, не хочешь, чтобы я мучилась разными думками, то скажи мне Христом-богом, зачем ты к Мафтею ходил, да еще переряженный! Скажи, милый, хороший!
Катрынка закинула обе руки за шею Игната и крепко прижалась к нему, ласково и просительно заглядывая в глаза. Игнат слегка поморщился.
— Не след, Катрынка, говорить-то! — слегка взволнованным голосом сказал он, заключая молодую женщину в свои объятия.— Дело не бабьего ума.
— А ты все же скажи! Бывает, и баба в ином деле не хуже вас, мужиков, удумает. Ну, говори! А то у меня, скажу по совести, все Маринка с ума нейдет.
— Глупа ты, оттого и не идет,—усмехнулся Игнат.— Ну ладно, едят тебя мухи, скажу! Дай сесть.
Он сделал два шага, опустился на лавку, привлек к себе молодую женщину, доверчиво к нему прильнувшую, и заговорил вполголоса:
— Петро-цыган вернулся. Третьёво дня его в Нурештях видели, доносчик наш сказывал; вот вахмистр5 и послал меня к Мафтею проведать все доподлинно, что и как, нельзя ли каким манером изловить его, сокола ясного.
— Ну и что же?
— Ходил к Мафтею. Справлялся. Оказывается, правда, Петро доподлинно вернулся и на нашей стороне побывал, да только опять в Румынию подался. Мафтей обещал помощь оказать, чтобы, значит, когда Петро опять в наших краях объявится, изловить его.
Катрынка с досадой повела плечами.
— Посмотрю я на вас обоих, на тебя и на вахмистра твоего: какие вы оба дурни! А еще солдатами называетесь! Мафтей вам зубы заговаривает, морочит головы, а вы уши вешаете! Спросите лучше меня, кто сам-то Мафтей-то ваш, — я вам скажу: первый конокрад, да, вот кто. А вы как думаете? Петро-то его правая рука, вместе они и дела-то все обделывают. Может быть, пока ты вчера утром, переодетый, у твоего Мафтея сидел, Петро там же был; только ты его не видел, а он тебя наверно видел. Вот что! А вы думав-те, Мафтей вам и взаправду ловить Петра будет? Эх вы, простота!
— Ну, уж это ты, кажись, и врешь,—неуверенным тоном произнес Игнат,—я Мафтея который год знаю, не думаю, чтобы он какими художествами занимался. Прежде, может, что и было, а только теперь не думаю. К чему ему? Мужик богатый, почетом пользуется, старшиной, того гляди, выберут, — и вдруг конокрад! Статочное ли дело? Нет, Катрынка, что тебе набрехали, тому ты и веришь! У Мафтея врагов на десяти осинах не перевешаешь; вот они и выдумывают на него всякие небылицы: и контрабандир-то он, и конокрад, и монетчик; чего-чего только не наплетут, слушать ушей не хватит! А все вздор!
— Ну, вздор, так вздор. Поживем — увидим, а только вот что я тебе еще скажу. Послушайся ты меня,— Христом-богом молю. Будь ты поосторожнее относительно Петра. Вы его плохо знаете. Это такой человек, такой, что я и сказать не умею! Хуже сатаны! На его душе не одни лошади, а и похуже что есть! Доведется,— он не посмотрит ни на что; ему человека убить — пустое дело! Убьет и сам на панихиду придет,—вот он какой!
Игнат презрительно усмехнулся и красивым движением расправил богатырские плечи.
— Аль за меня боишься? — произнес он ласково и в то же время насмешливо. — Небось не поросенок! И того иной раз не сразу зарежешь, брыкается, а меня как будто и мудрено! Ну, да черт с ним, и с Петро, не для этого я пришел сюда! У меня еще один часок впереди свободный до службы: приласкай-ка ты меня лучше, а то сначала лаялась, а теперь пужаешь!
Молодая женщина слегка покраснела и, с загоревшимися страстью глазами, крепко обняла Игната, прижавшись к его лицу горячими губами.
— А и раскрасавица же ты у меня! — дрогнувшим голосом произнес Игнат. — Неужели ж я тебя на кого-нибудь променяю?!
За селением Нурешти начинается густой лес. Длинной полосой тянется он на расстояние десятка верст и служит как бы естественной границей между двумя уездами. Среди окрестных жителей лес этот пользуется дурной славой. Летом, осенью и весной в его глубоких оврагах, поросших густым кустарником и мелколесьем, время от времени устраивают себе приют разные лихие люди и совершают оттуда свои волчьи набеги на большую дорогу или соседние селения; зимой на его опушках появляются шайки оголодавших волков и зорко высматривают запоздалых путников, идущих и едущих по дороге. Во мраке ночи их глаза, словно свечи, мелькают между кустами, и далеко разносится в мертвой тишине грозно-жалобный, скорбно-алчный вой. Заслышав его на большой дороге, лошади начинают дрожать, как в лихорадке, инстинктивно ускоряя бег, а у седоков волосы шевелятся под шапками и побелевшие губы торопливо шепчут молитвы.
Жутко проезжать ночью мимо нурештского леса зимою; но осенью, да еще во время бури, и того жутче. Словно полчища разъяренных чудовищ бьются в его заколдованных недрах. Вой, визг, хохот, стоны сливаются в один невообразимый хаос звуков и несутся навстречу путнику, наполняя его душу суеверным ужасом. Огромные, разлохмаченные деревья как пьяные шатаются во все стороны, потрясая своими вершинами, с которых, глухо шурша, безостановочно сыплются и сыплются миллиарды засохших листьев; ветер подхватывает их на лету, неистово кружит, бросает то вверх, то вниз и, только насытившись вволю своей безумной игрой, сметает, наконец, в огромные, плотно слежавшиеся кучи. Изредка из глубины леса раздается словно выстрел из тяжелого орудия, грохот и стон на мгновенье покрывают голоса бури: это какой-нибудь столетний гигант, не совладав с лютым врагом, падает, гремя доспехами, и своим падением безжалостно сокрушает тесно столпившихся вокруг него соратников.
В одну из таких ночей, в глубоком овраге, пересекавшем лес от одного края до другого, собралась небольшая кучка людей, человек пять: трое взрослых и два подростка. Трудно было выбрать место более удачное. В то время, как в лесу стон стоял от разбушевавшейся бури, на дне оврага, защищенного с одной стороны нависшей стеной, с другой — поваленным деревом, было совершенно тихо, настолько