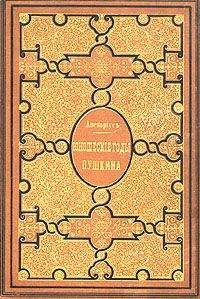— Охота, значит, пуще неволи-с? — спросил Леонтий и подмигнул лукаво одним глазом. — Ну, что ж, ваше благородие, на нет и суда нет. Коли у вас уж малодушество такое, что без грамоты вам никак быть нельзя, так от нашего брата, мелкой сошки, вам заказу в том не будет: жгите себе огня, сколько душеньке угодно, а наше дело только подать вам знак с колидору, чтобы врасплох, значит, не застало начальство.
— Хитер и увертлив, как истый шляхтич! — заметил Пущин.
Сановитый, бравый дядька выпрямился во весь рост и окинул сверху мальчуганов-лицеистов огненным, чуть-чуть презрительным взглядом.
— Шляхтич-то шляхтич, не отрекаюсь, — с достоинством произнес он, — но отставной сержант гвардии блаженной памяти матушки-царицы нашей Катерины Алексеевны (царствие ей небесное!); прослужил смолоду до седых волос русскому царю честью и правдой и до издыхания своего пребуду столь же верным слугою престола и отечества!
Глава VIII
Тюрьма или клетка?
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Довольно, сокройся!..
"Туча"
— Так-то ты служишь престолу и отечеству? — внезапно раздался из-за двери посторонний голос.
Если бы теперь, среди зимы, грянул вдруг оглушительный раскат грома, все трое разговаривавших не содрогнулись бы, кажется, так, как от этого голоса, слишком им знакомого. Все разом, как по команде, повернулись лицом к проволочному окошечку в дверях, из-за которого сверкали на них два жгучих глаза.
— Мартын Степаныч… — пробормотал не менее школьников смешавшийся дядька и вытянулся в струнку, руки по швам.
— Да, Мартын Степаныч, — подтвердил надзиратель и, распахнув дверь, вошел в камеру. — Твоя служба престолу и отечеству, стало быть, в том, чтобы язык точить по пустякам? А это что?
Вопрос относился к ломтю намазанного патокой ситника в руках Пушкина и к заманчиво разложенным на комоде другой половинке ломтя, шоколадной плитке и кучке яблок.
— Голод не тетка, ваше высокоблагородие, — нашелся тотчас же обер-провиантмейстер, — а в желудке у них нынче полк квартировал…
— И ты ничего умнее не придумал, как эти сласти, от которых и желудок и зубы разболятся? И яблоки, я уверен, незрелые.
Говоря так, Пилецкий взял с комода самое крупное яблоко и откусил половину его.
— Вон как крепки, хоть и довольно сочны, — продолжал он. — Покупать, господа, съестное на свои деньги вам, пожалуй, и не возбранено, но, не говоря уже о бесполезной трате денег, вы из простой деликатности к нашему образцовому заведению могли бы быть воздержаннее: вы здесь у нас на полном содержании и коште, и голодать вам никак уж не полагается.
— Но я с утра ничего не ел… — позволил себе заявить Пушкин.
— А зачем же вы, миленький мой, не ели? — беззвучным своим смехом рассмеялся Пилецкий. — Ведь Василий Федорович, добрейший директор наш, в виде исключения предлагал вам давеча закусить? Хлеб свой так и быть доедайте, но все прочее тут сохраните для десерта, что ли, после обеда. Сами потом мне спасибо скажете. Впрочем, четырех штук яблок вам, пожалуй, много: как раз захвораете. Парочку, с вашего разрешения, я захватил бы с собой для своих деток. Дозволите?
— Берите хоть все! — с холодной гордостью отвечал Пушкин.
— Вам жалко? Ну, не нужно.
Пушкин покраснел как рак.
— Нет, берите, пожалуйста, берите все…
— Ну, благодарствуйте. Парочки с меня довольно. Казенная форма на вас, я вижу, сидит как на заказ. Грива только невозможная: длинна, да и завита никак.
— Да, природою! — уже рассмеялся мальчик.
И надзиратель благодушно усмехнулся.
— Против погрешностей природы, дорогой мой, есть у нас радикальные средства; в данном случае — ножницы. Ужо, Леонтий, как придет парикмахер, не забудь кликнуть этого молодчика.
— Слушаю-с, ваше высокоблагородие.
— А теперь, господа, не угодно ли спуститься в рекреационный зал: там вывешено сейчас расписание будущих ваших уроков. Чай, небезынтересно и вам взглянуть?
Лицеисты послушно вышли из камеры и ускоренным шагом направились по коридору.
— А он вовсе не такой людоед, как мне показалось сначала, — вполголоса заметил на ходу Пушкин. — Только зачем у него на языке все эти сахарные прозвища: "дорогой мой", "миленький мой!"…
— Сахар Медович, привычка уж такая, что поделаешь? — отозвался Пущин. — Но вообще он к нам очень внимателен.
— Кажется, даже чересчур! На язычке мед, а под язычком лед.
— Да, от него ничего не скроешь, все пронюхает, разглядит, и если раз попадешься, то не жди пощады.
— О ком это вы говорите, Пущин? — послышался опять в двух шагах за ними медовый голос Пилецкого, который на своих мягких подошвах без каблуков неслышно нагнал лицеистов. — Если обо мне, то ошибаетесь: как истинный христианин я, видя искреннее раскаяние, всегда готов пощадить; злонамеренного же упорства я, точно, не попущу.
Застигнутые врасплох мальчики, как преследуемая дичь, бросились бежать и, спустившись с лестницы, искали спасения в рекреационном зале.
Здесь от нескольких десятков молодых голосов стоял в воздухе такой гул и гам, что в первую минуту Пушкин был точно оглушен. Вдруг навстречу ему бросился Гурьев с распростертыми руками.
— А! Француз! Душка ты мой!
И прежде чем Пушкин успел отстраниться, тот облобызал его в обе щеки.
— Француз! Француз! — весело подхватили другие и, обступив вновь прибывшего, стали наперерыв пожимать ему РУку.
В это время к ним подошел высокий и статный мужчина лет 28-ми, в вицмундире, беседовавший в углублении окна с двумя-тремя воспитанниками.
— Куницын! — шепнул кто-то около Пушкина.
— Здравствуйте, Пушкин, — заговорил молодой профессор и затем обернулся к прочим: — Вы, господа, кажется, и не подозреваете, что делаете ему честь, называя его Французом? Вы этим признаете только его превосходство над вами во французском языке. Или в вас говорит зависть? Не хотелось бы думать.
Внушение было сделано с такою добродушною, благородною строгостью, что лицеисты не могли обидеться, а только смутились. Гурьев же, благоговейно сложив пальцы, проговорил как бы про себя, но настолько явственно, что нельзя было не расслышать:
— Как это верно, как хорошо сказано!
Если он рассчитывал заслужить этим благодарность профессора, то ошибся в расчете: Куницын оглядел его слегка презрительным взглядом, подозвал к себе Пушкина и, обняв его за плечи, пошел ходить с ним по зале.
— Вы дружны с этим Гурьевым? — был первый вопрос его.
— Нет, только случайно раньше познакомились, — отвечал Пушкин.
— И не советую особенно дружиться с ним. А что до клички Француз, — прибавил он, ласково улыбнувшись, — то предрекаю вам, что она, как наклеенный ярлык, за вами так и останется. Ну что, каково вам здесь показалось? Дома вы пользовались полною свободой, а мы одели вас в общую форму, втиснули в рамки определенного расписания, точно связали по рукам и ногам, не правда ли?
— Ах, да… — вздохнул Пушкин. — И в дверях камер даже проволочные решетки, как в тюрьме…
— Не думал я, признаться, что попаду в тюремщики! — засмеялся Куницын. — Но успокойтесь: поверьте мне, что скоро обживетесь, как птичка в клетке. Вы здесь не в тюрьме, а в клетке.
— Только не в золотой!
— Именно в золотой. Великодушный монарх наш приютил вас, лицеистов, в своем царском чертоге, предоставил вам даже тот самый флигель, где до сих пор жили его младшие братья и сестры. Радея о вас, как о родных детях, он отдал вам свою собственную библиотеку, где многие книги носят еще на полях собственноручные его драгоценные пометки. "Мне надобны люди добрые, честные для службы моей" — его подлинные слова. И дабы подготовить вас надлежащим образом "ко всем важным частям службы государственной" (как дословно выражено в высочайшем указе), мы, ваши ходатаи и рачители, приставлены к этой золотой клетке кормить вас самым отборным научным зерном. А отрастут у вас крылья — с Богом! — летите на все четыре стороны и всемерно прославляйте имя нашего державного куратора, что вашу юность так отечески возлелеял. Слегка напыщенная, но образная речь молодого профессора сама по себе не могла уже не затронуть созвучной струны в груди мальчика-поэта. А глубокая убежденность, почти юношеская восторженность, которыми дышало каждое слово этой речи, придавали ей неотразимую силу. Увлеченный ею, Пушкин откровенно признался:
— Я всегда безотчетно любил государя: он так ангельски добр, говорят! В памяти моей навсегда останется один случай, о котором я как-то слышал в детстве.
— Какой это случай?
— А однажды, видите ли, государь со свитой гулял верхом за городом. Вдруг он поскакал вперед. Оказалось, что на берегу реки он увидел толпу крестьян, которые, вытащив из воды утопленника, не знали, что с ним делать. Государь соскочил с коня, велел раздеть покойника и вместе с крестьянами стал тереть ему виски, руки, подошвы ног. Между тем прискакала и свита и, можете себе представить, как была удивлена! А крестьяне совсем обомлели: они до тех пор принимали государя за простого офицера. В свите был и лейб-медик… Забыл, как его зовут…