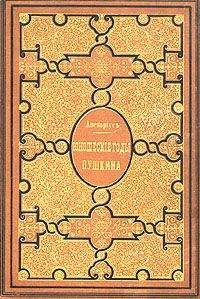— А там, направо, видишь, старый дуб, где обедали всегда в жаркую погоду?
В это время откуда-то доносятся к ним звонкие девичьи голоса, так и заливающиеся знакомою песней.
— Ах, это, верно, опять хоровод в деревне!
Но вот сестрицу Олю увели переодеваться. Он, Александр, потихоньку уносит со стола забытую отцом книжку с зарывается в глубину парка, где его уже никто не разыщет. Растянувшись на мягкой душистой траве, он раскрывает книгу. Но лежать здесь так отрадно: солнечные лучи сквозь прозрачную еще зелень пригревают так ласково… И интересная книга валится у него из рук. Заложив вместо подушки за голову руки, он лежит на спине и, не отрывая глаз, глядит в это синеющее между зелеными верхушками небо, по которому тихо-тихо плывут молочно-белые облака. И грудь у него ширится, точно готова распахнуться, и сам он готов ринуться туда, в эту глубокую, бездонную синеву, и, падая, ухватиться за облачко, чтобы поплыть на нем, чем далее, тем лучше, хоть на самый край света…
— О чем замечтались, милый мой! — прозвучал над самым ухом Пушкина чей-то не то насмешливый, не то вкрадчивый голос, и чья-то рука фамильярно легла к нему на плечо.
Милые видения недавнего прошлого разлетелись, как дым. Снова перед глазами его замелькали, закрутились бесчисленные снежные хлопья, снова навис сверху непроглядный, свинцово-серый небесный свод, а сердце загрызла прежняя тоска. Резким движением плеча он отвел непрошеную руку и, нахмурясь, обернулся.
Перед ним стоял сухопарый господин в вицмундире, с тонкою усмешкой на тонких губах и с умильно-прищуренными, маслянистыми глазами; но глаза эти, вместе с тем, глядели так пристально, что, казалось, хотели проникнуть в самую душу.
— С кем имею честь?.. — холодно пробормотал Пушкин. Незнакомец беззвучно рассмеялся и ответил тем же ласковым тоном:
— Имеете честь говорить с одним из ваших будущих начальников, классным надзирателем Мартыном Степановичем Пилецким-Урбановичем. Но таковым я почитаюсь только по званию служебному, на деле же я буду вашим ближайшим другом, который вполне заменит вам и отца, и мать, и дядю.
— Никогда! — вырвалось у Пушкина.
— Та-та-та! Экой вы, милейший мой, недотрога и незамайка. Мне говорили уж, что вы до сей поры, как одичалый конь, не ведали узды и браздов. Наши бразды будут самые вольготные, можно сказать — бархатные, но все же научат вас идти туда, куда долг велит. Вы вступаете у нас, дорогой мой, в такую же родственную семью, как ваша, но, несомненно, в более благоустроенную, ибо, как я не без огорчения слышал…
Пушкин не дал ему договорить.
— Прошу вас, господин надзиратель, не трогать моей семьи! Я этого не могу позв… не могу слышать…
Пилецкий промолчал, только сжал свои тонкие губы, повернулся на каблуках и отошел к Василию Львовичу, который продолжал свою неумолкаемую беседу с Малиновским.
— Однако племянничек-то ваш, господин Пушкин, признаться сказать, еще строптивее, чем вы мне давеча говорили! — заметил Пилецкий.
— Не всякое лыко в строку, господин надзиратель, — благодушно вступился Василий Львович, — разлука, знаете, с родными, новая обстановка, то да се…
— Да и голод, конечно! — хватился Малиновский. — Что ж это не подадут горячего бульону?
И, позвонив слугу, он распорядился завтраком.
— Прошу вас, господа, закусить, чем Бог послал. Александр! Подите же сюда, покушайте с нами.
— Благодарю… право, не хочется… — отказался мальчик.
Зато Василия Львовича не нужно было еще раз просить; смачно закусывая, он обратился к надзирателю:
— Изволите видеть: даже аппетит у молодца отбило, хоть с утра во рту маковой росинки не было. Выражаясь фигурально, это — молодое деревцо, пересаженное на чужую почву: как его ни поливай — в первое время свежие дотоле листья поблекнут, свернутся. Все теперь в ваших руках, в руках его будущих садовников; вы можете акклиматизировать его, заставить приносить обильные и сочные плоды, как вот эта ветчинка. А славно запечена! Это у вас здешний колбасник мастер такой или из Питера вывезли? Отведай, Александр: во рту, я тебе скажу, тает.
— Ей-Богу, не могу, дядя…
— Ну после, за общим столом накушается тем плотнее, — заметил Малиновский. — Вы бы, Мартын Степанович, отвели его теперь к товарищам, это его немножко развлекло бы.
— Слушаю-с, — отвечал Пилецкий и взял уже Александра за руку.
Но Василий Львович остановил племянника:
— Да ведь мы с тобой, я думаю, уж не увидимся?
— Вы сейчас разве едете, дядя?
— Мне надо еще уложиться в Москву.
Племянник заволновался.
— Как? Но перед отъездом туда вы все же заедете сюда, в Царское?
— Да, проездом, пока на станции перепрягают лошадей, может статься, загляну на минутку. Но проститься, на всякий случай, не мешает.
— А к открытию лицея вы разве не будете?
— Не пустят, дружок: за множеством сановников, которые будут сопровождать их величества, для нашего брата, простого смертного, говорят, места не хватит.
— Да, к сожалению, — подтвердил директор, — по распоряжению министра…
— Ах, дядя!..
— Что, голубушка родная, жутко стало? Ничего, не тужи! Терпи казак — атаманом будешь. А дома-то от тебя поклониться?
— Пожалуйста! Оле, няне…
— И родителям?
— Да, конечно… Прощайте, дядя…
— А обнять на прощанье не хочешь?
Александр, не сдерживая уже слез, повис у него на шее.
— Прощайте… не забывайте меня, пишите… Благодарю вас, дядя, за все, за все…
— Не за что, милый мой, — отвечал растроганный Василий Львович, целуя племянника.
Так же порывисто, как обнял дядю, Александр оторвался теперь от него и выбежал из комнаты, отирая на бегу глаза. Надзиратель Пилецкий схватил со стола свою фуражку и поспешил за мальчиком, напрасно крича ему:
— Куда же вы, Пушкин? Ведь вы и дороги-то не знаете!
Догнал он его только на другой стороне двора, когда Пушкин поневоле задержал шаг, недоумевая, в какую дверь войти. Буйным ветром так и развевало на непокрытой голове его густые кудри, так и хлестало его по разгоряченному лицу колючими снежинками.
— Сюда, за мной! — крикнул ему Пилецкий, бросаясь в ближайшую дверь. — В четвертый этаж!..
Пушкин уже опередил его и, шагая через две ступени, побежал наверх. Тут на повороте лестницы он столкнулся лицом к лицу со спускавшимся вниз другим лицеистом, в казенной уже форме — синем сюртуке с красными обшлагами.
"Пушкин!", "Пущин!" — вырвалось разом у обоих.
Не будь тут надзирателя, который, задыхаясь, догонял Пушкина, они, быть может, заключили бы друг друга в объятия; теперь же, в присутствии незваного свидетеля, они ограничились только рукопожатием. Впрочем, и Пилецкому, должно быть, уже порядком успел надоесть не в меру шустрый новичок-лицеист, потому что он поспешил сбыть его с рук.
— Очень рад, что вы попались нам, Пущин. Отведите-ка товарища в его камеру да кликните дежурного дядьку.
С этими словами он отворил соседнюю дверь третьего этажа и захлопнул ее за собой. Лицеисты наши продолжали стоять на площадке, держась за руки и глядя вслед надзирателю.
— С этой минуты, значит, мы шесть лет будем неразлучны? — заговорил первым Пущин, крепко сжимая руку приятеля и дружески заглядывая ему в глаза. — Да ты, Пушкин, никак плакал?
— Ах, вовсе нет!.. — сконфуженно возразил тот. — Я не выспался хорошенько…
— Чего же ты стыдишься? Ведь ты, верно, сейчас прощался с Василием Львовичем?
— Прощался.
— Ну, вот. И я тоже, когда расставался со своими, — а они совсем близко, в Петербурге, — и я захныкал, как маленький ребенок.
— Мы оба, стало быть, еще дети! — рассмеялся Пушкин. — Однако, здесь на лестнице вовсе не жарко.
— И то правда! Идем же, идем. Я тебе сейчас покажу твою новую квартиру. Ну, кто скорее?
И, по-прежнему держась за руки, они взапуски пробежали остальные ступени до четвертого этажа.
Стул ветхий, необитый,
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель -
Вот все, что пред собою
Я вижу…
"К сестре"
В нижнем этаже отведенного для лицея флигеля царскосельского дворца было размещено все лицейское начальство (за исключением директора, поместившегося в надворной пристройке); во втором этаже были: столовая, конференц-зал, канцелярия и больница; в третьем — классы, рекреационный зал, физический кабинет, а в арке, соединявшей лицей с главным зданием дворца, — библиотека лицеистов, где насчитывалось уже в 1811 году 800 томов; наконец, весь четвертый этаж, куда поднялись теперь Пушкин и Пущин, был занят дортуарами воспитанников. Вдоль всего этого этажа шел коридор, который освещался только решетчатыми окошечками в дверях камер, расположенных по обе его стороны, так что даже в светлый, солнечный день там царствовал полумрак, а теперь, в пасмурную погоду, было еще темнее. В этих потемках Пушкин едва разглядел общие очертания двигавшейся издали навстречу им мерным солдатским шагом коренастой, рослой фигуры.