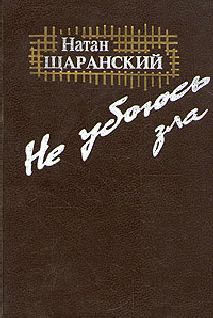По коридорам следственного изолятора надзиратель идет, громко щелкая пальцами или, если не умеет, стуча одним ключом о другой. Это сигнал -предупреждение тем, кто, возможно, идет навстречу: веду за-ключенного. Мы не должны встречаться, не должны разговаривать, не должны видеть друг друга. Если же вдруг из другого конца коридора раздается такой же сигнал, тебя заводят в специальную нишу, тесную, как шкаф, и запирают там, а когда ниши поблизости нет, начинается сложная операция по "разводу" заключенных.
На допрос я каждый раз иду, стараясь скрыть волнение, в постоян-ном ожидании какого-то странного сюрприза, неизвестного мне доку-мента или неожиданного показания близкого человека -- когда, нако-нец, станет ясно, почему они решились обвинить меня в измене. Но вместо сенсаций -- все те же общие вопросы и долгие рассуждения о безнадежности моего положения, о том, что КГБ не шутит, о том, что впереди меня ждет "рас-с-стрел"...
Возвращаешься в камеру. Щелканье пальцев, стук ключей. Уста-лость. Пытаешься вспомнить свои ответы: все ли было правильно, все ли шло в соответствии с твоим "деревом целей и средств", -- но невольно соскальзываешь на другое: что стоит за их вопросами, серьезны ли угро-зы...
Однажды следователь приносит выписки из законов западных госу-дарств, в том числе и США, об ответственности за измену и подрывную деятельность.
-- Видите, действия, направленные против собственной страны, пре-следуются везде, так что напрасно вы киваете на Запад. У них законы еще суровей наших.
Я читаю. То ли от усталости, то ли по причине юридической безграмотности, но я действительно с первого раза не вижу различия в форму-лировках и говорю ему:
-- Я плохо понимаю всю эту казуистику, но мне известны факты. Если бы на Западе были такие же статьи, как, скажем, ваша семидеся-тая, то коммунистические партии там давно бы запретили бы, а их чле-нов пересажали.
Немного подумав, Черныш отвечает:
-- Конечно, по их законам так и должно быть. Но капиталисты боят-ся гнева своих народов, а потому терпят коммунистов.
Этот идиотский ответ -- мне приходилось слышать такое еще в де-тском садике, когда был жив "отец народов", -- еще раз говорит о том, с какими примитивными людьми я имею дело. Мне остается только пре-зрительно улыбнуться и промолчать.
Но в целом -- я в глухой защите, психологически подавлен и мечтаю лишь об одном: чтобы допрос поскорее кончился и меня увели в камеру.
А там сосед взволнованно рассказывает о своем деле, участливо рас-спрашивает тебя, охает, сочувствует, вспоминает какие-то истории, из которых вывод всегда один: главное -- чтобы лоб зеленкой не смазали. Там -"рас-с-стрел", здесь -- зеленка... Хочется ничего не слышать, ничего не видеть.
Часто мне это удается. Я ложусь на нары, укрываюсь пальто, повора-чиваюсь к стене и засыпаю. В дни, когда меня не вызывают, я сплю поч-ти круглые сутки -- с перерывами на еду и прогулку. Когда же меня бе-рут на допросы -- сплю после них и даже в перерыве: меня, если допрос затягивается, возвращают в камеру часа на полтора, и я, пообедав, ухитряюсь минут сорок поспать. После этого возвращаюсь на допрос полусонный, с трудом подавляя зевоту. Следователь не верит, думает -- притворяюсь, изображаю равнодушие.
Никогда в жизни я так много не спал, как в эти первые три недели после ареста, -- в среднем, наверное, не меньше пятнадцати часов в сутки. Отключался я почти мгновенно, но спал беспокойно, и забытье мое было лишь продолжением реальности: мне снились допросы -- про-шедшие и будущие, родственники и друзья -- близкие и далекие, и на-пряжения эти сны не снимали. Я просыпался, перебрасывался с соседом какими-то репликами, и тут же появлялось желание поскорее снова за-снуть.
Так продолжалось дней двадцать. Но вот однажды, проснувшись ут-ром, я неожиданно почувствовал себя свежим и полным сил и с удивле-нием отметил: спать больше не хотелось. Впервые после ареста я сделал зарядку и облился холодной водой из-под крана, несмотря на то, что в камере было очень холодно и мы спали в теплом белье, укрываясь одея-лом и пальто. Голова была ясной, и желание бежать от реальности в за-бытье пропало.
Было бы неверным сказать, что я внезапно почувствовал облегчение или вдруг пришел в веселое расположение духа. Бремя ответственности по-прежнему тяготило меня, ситуация пугала своей неопределенно-стью. Но отгородиться от действительности я больше не пытался. Я ощу-тил в себе решимость и готовность бороться.
Прежде всего нужно было разобраться в своих ощущениях. В чем причина постоянной тревоги перед встречей со следователем, отчего я во время допроса думаю лишь о том, чтобы он поскорее кончился?
Анализируя наши разговоры с Чернышом, я пришел к малоутеши-тельному, но, увы, очевидному выводу: психологически я не был готов к обвинению по шестьдесят четвертой статье и угрозе возможного рас-стрела.
Еще лет пять назад, узнав о том, что кого-то осудили, скажем, на три года тюрьмы, я воспринимал это так, как если бы жизнь того человека была погублена навсегда. Но прошло время, и постоянная угроза ареста стала привычной. А встречи с людьми, прошедшими тюрьмы и лагеря, постепенно подготовили сознание к тому, что заключение -- хоть и тра-гический, но все же допустимый, реальный для меня вариант судьбы.
Со временем я приучил себя в беседах с сотрудниками КГБ пропу-скать мимо ушей их угрозы, сообщать им не то, о чем они спрашивают, а то, что я сам хочу им сказать.
Я мог волноваться, сидя подолгу у телефона в ожидании разговора с Израилем, с Наташей: дадут или нет, мог испытывать нервное возбуж-дение перед тем, как выйти на площадь и поднять плакат "Свободу уз-никам Сиона!", ощущал упрямую решимость не отступить, когда надо было передать на глазах "хвостов" очередное заявление иностранным корреспондентам. Но стоило мне сесть за стол перед работником КГБ или милиции -- и я чувствовал себя как шахматист, играющий с заведо-мо более слабым противником. Ведь они говорили именно то, чего я от них и ожидал, предупреждали, угрожали, шантажировали, льстили, что-то обещали. Их ходы я предвидел, был готов к ним, а потому они мне были не опасны. Я чувствовал, что психологически полностью кон-тролирую ситуацию.
Сейчас же это чувство исчезло. "Рас-с-стрел"...
И если я пока не сказал ничего такого, за что мне было бы стыдно, то кто знает, что будет позднее, когда они перейдут от предварительных общих вопросов, от "артподготовки" -- так я определял первые допросы Черныша -- к решительному широкому наступлению... Словом, я ре-шил, что мне надо срочно привыкнуть к мысли о высшей мере.
Но как этого добиться? Слова "тюрьма", "лагерь", "ссылка", не раз звучавшие на допросах, уже не производили на меня впечатления -- я их почти не замечал. Надо, чтобы и слово "расстрел" стало таким же обыденным.
Помню, как удивился следователь, когда я вдруг -- почти без всякой связи с его вопросом -- заметил: все равно, мол, расстреляете, к чему лишние разговоры. Удивился он, видимо, оттого, что раньше поднимать эту тему было его привилегией, я же затрагивать ее избегал. Он внима-тельно посмотрел на меня и, похоже, решил, что я его испытываю -- проверяю, насколько вероятен такой исход. Черныш стал пространно говорить о том, что это не пустые угрозы, что его долг -- не запугивать меня, а помочь мне правильно оценить ситуацию, -- и еще что-то в том же ключе. Но с этого дня наши роли на некоторое время переменились. Теперь я сам вставлял в разговор слово "расстрел" при каждом мало-мальски подходящем случае. Поначалу это давалось мне с трудом, при-ходилось делать над собой усилие, чтобы выговорить страшное слово, но вскоре я с ним свыкся и произносил его все более и более естественно -- так постепенно загрубевает пятка от ходьбы босиком по земле.
Прошло недели две-три, и мой план стал оправдываться: я заметил, что ни само это слово, ни разговоры на тему о "высшей мере" меня боль-ше из равновесия не выводят.
* * *
Привыкание к слову "расстрел" было не единственной частью моего аутотренинга. Как я уже говорил, с первых же дней, если не часов, по-сле ареста я стал "улетать" из тюрьмы в свой мир, думая о близких мне людях и представляя, где они находятся сейчас, что делают. Так пол-учалось помимо моей воли, и каждый раз, "вернувшись" в камеру, я сердился на себя, считая такие побеги от действительности проявлением слабости. "Надо думать о настоящем, готовиться к очередному допросу, а не расслабляться", -- примерно так говорил я себе. Но самовнушение помогало мало.
Как-то во время допроса мой следователь говорил по телефону с сы-ном -судя по всему, подростком лет четырнадцати. Тот просил разре-шения пойти в кино, а отец интересовался, сделаны ли уроки. "Так ты их только учил или выучил?" -- говорил он точно теми же словами и та-ким же тоном, что и моя школьная учительница лет пятнадцать назад. В другой раз он звонил домой и договаривался с женой пойти в Большой театр. Еще через несколько дней двое из приставленной ко мне команды следователей обсуждали в моем присутствии вопрос о переезде с семьей на летнюю дачу. Первой, мгновенной реакцией на такие разговоры бы-ло возмущение: они просто резали слух своей неуместностью. Как так -- те же люди, что грозят мне расстрелом, варганят сейчас очередные черные дела, играют еще и роль добропорядочных отцов семейств?! Это уже слишком!