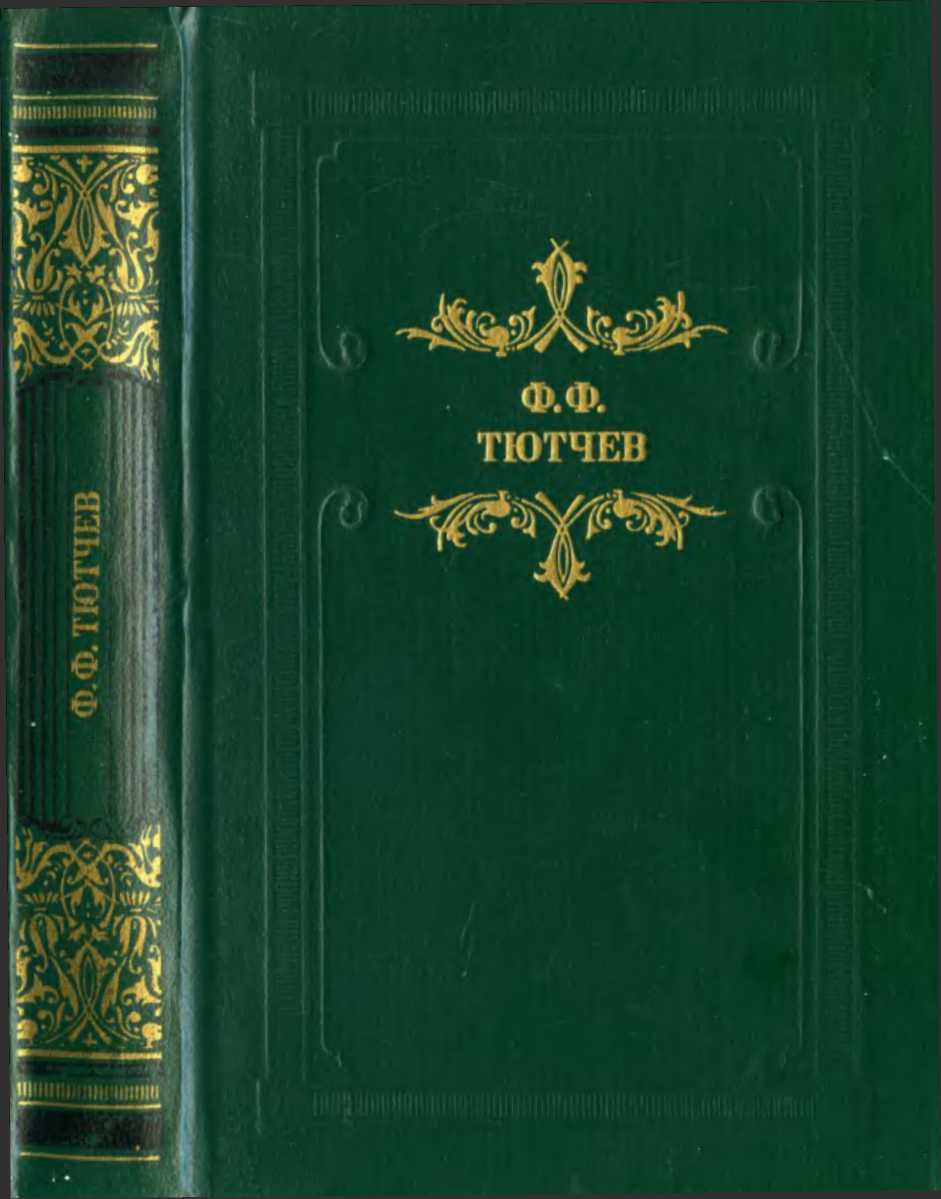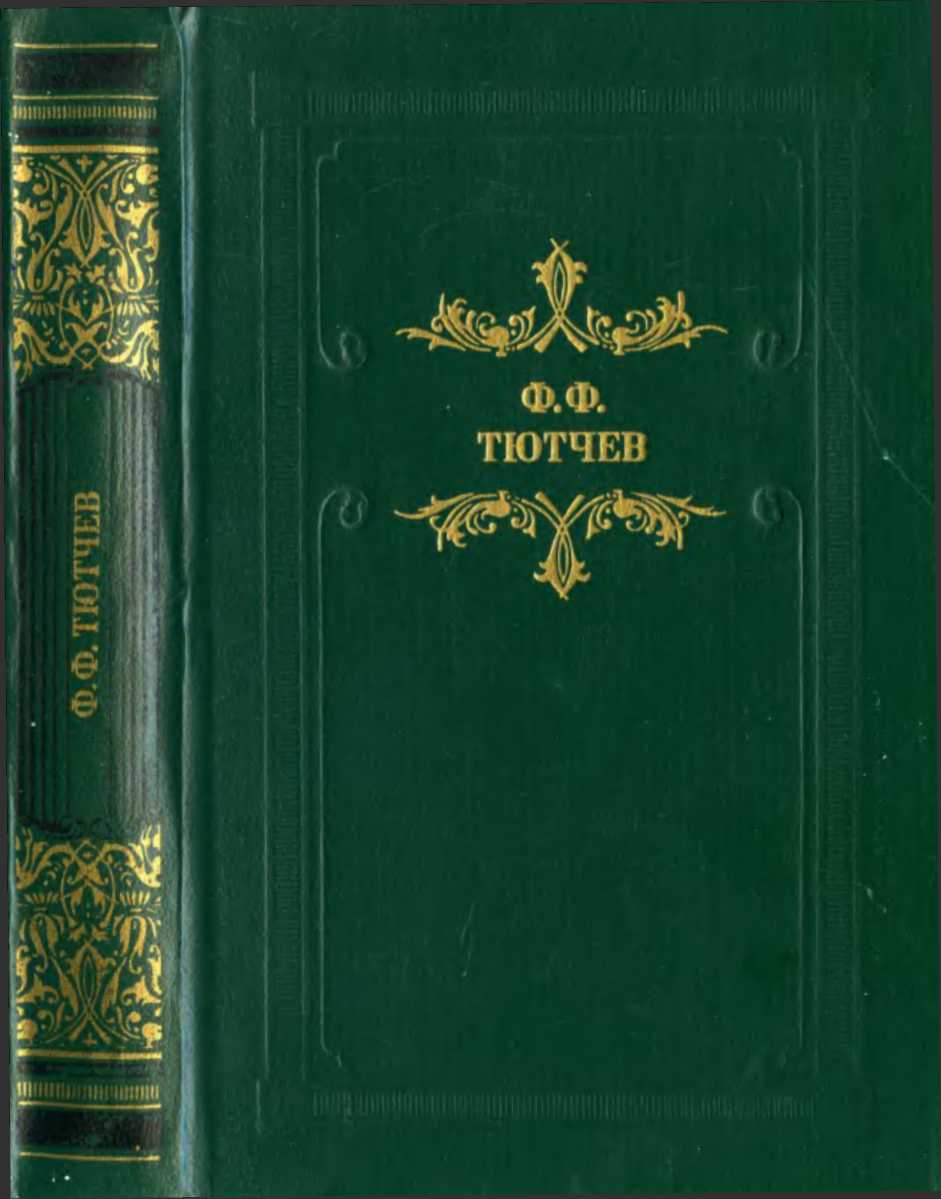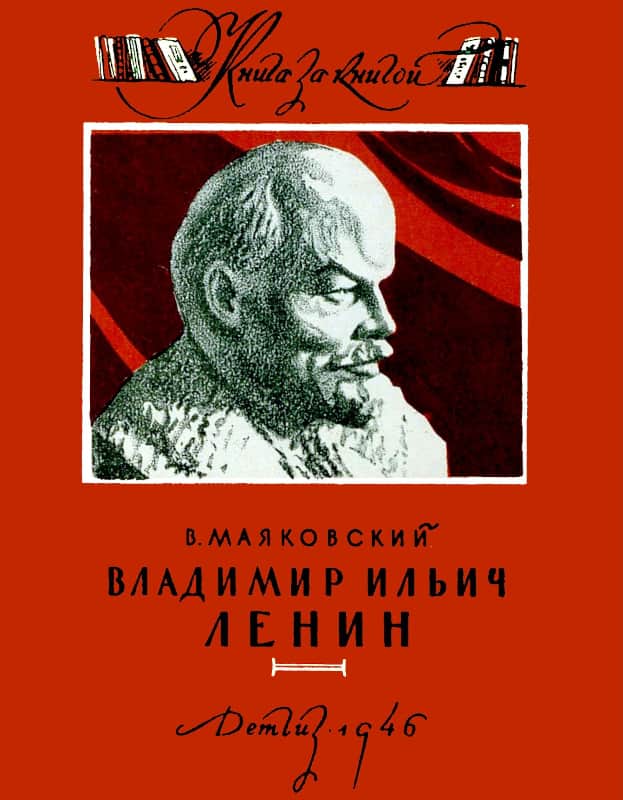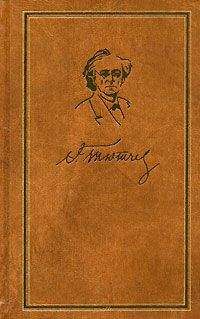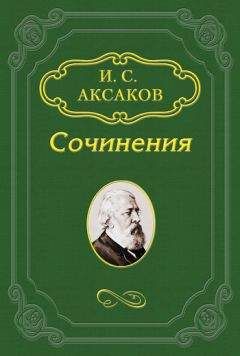головой и с жалобным ржанием оглядывалась на лес, где в глубоком овраге остался бездыханный труп ее жеребенка.
Корчма в селении Нурешти, содержимая жидом Иоселем Зальцманом, ни наружным, ни внутренним видом не отличалась от тысячи других, ей подобных. Довольно вместительная комната с бревенчатым потолком была разгорожена прилавком на две половины, причем большая, где стояли скамьи и простые деревянные столы, предназначалась для посетителей, а меньшая служила под помещение магазина. В этом «магазине», на особо устроенных полках, наподобие клеток, лежал всевозможный товар, начиная с залежалой, помнящей Ноев потоп коробки сардинок, до сапожных вытяжек включительно. Тут были куски ситца, бусы, грошовые серьги, пряники, превратившиеся в нечто археологическое, мыло, специальные деревенские духи, от которых чихает даже одержимый неизлечимым насморком, леденцы, ржавые селедки, гвозди, засиженные мухами баранки и бесконечное число других всевозможных товаров, перечисление которых заняло бы слишком много времени.
Между задней стеной и прилавком чернела огромная бочка с кислым виноградным вином, другая, поменьше,— со спиртом. Несколько бутылок сладкой водки и дешевых наливок, с ярко разрисованными ярлыками, красовались на прилавке и на одной из полок, окруженные горами папиросных и спичечных коробок, пачками табаку и махорки.
В самом углу, за прилавком, как тараканья щель, виднелась небольшая дверца, соединявшая корчму с другой комнатой, считавшейся, по мнению Иоселя Зальцмана, «чистою». В этой комнате останавливались выпить стакан вина и съесть «битую» яичницу с молоком проезжающие по дороге мелкие помещики, профессора, управляющие, торговцы и прочий народ, считавший для себя унизительным смешиваться с крестьянской толпой, наполнявшей общую комнату-корчму. Посредине комнаты помещался стол, покрытый цветной скатертью, и стояло несколько массивных тяжелых стульев. Широкая тахта, покрытая поверх мочального матраца молдаванскими паласами и служившая Эльдорадо6 целым племенам клопов, блох и прочих насекомых, занимала почти всю стену. На единственном окне сиротливо висела ситцевая красная занавеска и ютилась, забытая кем-то еще с прошлого года, банка из-под помады.
Деревянный пол был черен, и в нем красовалось столько щелей, что всякая уроненная вещь, если только она не была зонтиком или чем-нибудь вроде того, бесследно проваливалась.
Обрывки обоев, разных рисунков и окраски, лохмотьями висели по стенам, служа убежищем проворным и всегда чем-то озабоченным тараканам.
И хотя все, находившееся в комнате,—тахта у стены, занавески на окне, помадная банка на подоконнике и, наконец, свесившиеся лоскутья обоев, — представляло из себя одну сплошную грязь, Иосель продолжал упорно называть комнату «чистой» и с горделивым видом предлагал ее проезжающим, уверяя их, что они могут отдохнуть в ней и даже выспаться, как «ув раю».
Вот в этой-то, соперничающей с раем, комнате, в один из жарких июльских дней, под вечер, собралась компания из трех человек: Петра, Руснака и Мафтея. Из них только Петро выглядел таким же, как и в прошлом году, здоровым, сильным и беззаботным. Других же двоих даже самый близкий человек признал бы не сразу: так они изменились. Последствия крестьянского самосуда, на который Руснак жаловался осенью прошлого года, сидя с Петром и дядей Дмитрашем в Волчьем овраге, превратили его в совершеннейший полутруп, высохший, как скелет, с изогнутой спиной, мертвенно-бледным лицом, трясущимися длинными руками и колеблющейся походкой. Несмотря на молодые годы, волосы на голове Руснака поседели, и он смотрелся хилым стариком. Неспособный ни к какому труду, он влачил жалкое существование, скитаясь от селения к селению и вымаливая себе кусок хлеба, причем нечестивый язык его, среди лицемерных молитв, изрыгал самые богохульственные проклятия.
Мафтей тоже круто изменился. Посаженный в тюрьму за укрывательство и пособничество сильным пятидесятилетним здоровяком, обладавшим богатым, полным, как чаша, домом, он вышел из нее болезненным стариком, горьким пьяницей и бездельником. В его отсутствие хозяйство его пошло прахом. Старуха жена умерла, единственная дочь-невеста, с горя по отказавшемся от нее женихе, начала пить и развратничать; имущество продано на удовлетворение частных кредиторов; словом, все рушилось, вместе с добрым именем и уважением соседей. Поселившись в своем разоренном доме, Мафтей уже не в силах был снова устроить свою жизнь такой, какой она была раньше, и принялся пить вместе с дочерью, опускаясь нравственно все ниже и ниже. Мало-помалу в нем заглохли все человеческие чувства, кроме одного, — глубокой, непримиримой ненависти к солдату Игнату, которого он считал единственным виновником своего несчастия.
Петро, после памятной ночи, когда солдаты отбили у него, Руснака и дяди Дмитраша перегнанных ими из Румынии лошадей, исчез, и долго о нем не было ни слуху ни духу. Только недавно он снова появился в здешнем краю, выслеживая и разузнавая, куда девались его былые товарищи. Сведения, собранные им, были, однако, малоутешительны. Мафтей спился, Руснак едва волочил ноги, дядя Дмитраш умер, его мальчики — племянник и сын — куда-то ушли. Таким образом вся шайка распалась, и для того, чтобы снова начать «дела», Петру необходимо было озаботиться приисканием новых товарищей и помощников. В надежде на добрый совет, Петро пригласил своих старых товарищей в корчму Иоселя Зальцмана и, поставив перед ними куфель водки, предложил на обсуждение интересовавший его вопрос, с кем и как можно начать теперь прежнее ремесло. Однако, вместо ожидаемого совета и интересных сведений, Мафтей и Руснак, оба в один голос, принялись плакаться на свою долю и проклинать причину их несчастий — солдата Игната.
— Ведь ты подумай только, Петро,—заплетающимся языком говорил охмелевший Мафтей,— разве ж не обидно?! Мы с ним приятели были; бывало, придет ко мне в гости, я не знаю, где и посадить его, чем угостить. Думал, окончит службу, Маринку отдать за него и половину хозяйства им выделить; а он меня же, друга своего, изловил и начальству представил! Вот чего я простить ему не могу!
— Ох, силы-то у меня не стало, а то я бы ему! — в свою очередь скрежетал зубами Руснак.— Из-за него меня мужики искалечили! Не излови он меня, да не отдай им караулить, ничего бы этого не было! Мужики трусы, ни один из них ко мне и подступиться не смел!
Петро слушал жалобы своих прежних сообщником, и неопределенная улыбка бродила на его толстых, румяных губах.
— Так ты говоришь, — обратился он к Мафтею,— Игнат теперь тут за старшего поставлен?
— То-то и беда,— отвечал Мафтей,—после того, как он вдвоем у вас, как у старых баб, целый табун лошадей отнял, ему большая награда вышла, а затем вскорости его старшим сделали, и с тех пор от него никому житья нет! Помнишь Атанаса-контрабандира? На что ловкий был, сколько лет «носил», а и того поймал, и