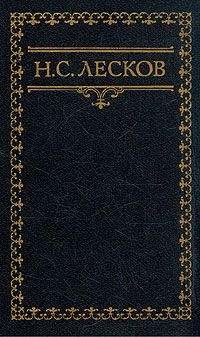– А что же здесь самое выдающееся? – полюбопытствовала Аичка.
– Вот отгадай.
– Я не люблю отгадывать: впрочем, верно – благословение?
– То-то и есть: благословение, но какое? Всякий говорит «благословение», а что именно такое заключает в себе благословение, это не всякий понимает. Ты ведь священную историю небось учила?
– Учила, да уж все позабыла.
– Как это можно! все позабыть это немыслъмо.
– Ну вот, а я забыла.
– Ну, вспомни про Исава и Якова. Их бог еще в утробе не сравнил: одного возлюбил, а другого возненавидел.
Аичка рассмеялась.
– Чего же ты, милушка, смеешься?
– Да что вы какие пустяки врете!
– Нет, извини, это не пустяки.
– Да как же, разве я не понимаю… в утробе ребенок ничего не пьет и не ест, а только потеет. В чем же тут причина, за что можно их одного возлюбить, а одного возненавидеть? Это только мать может ненавидеть, которая стыдится тяжелой быть, а бог за что это?
– Ну, уж за что возненавидел бог – об этом ты не у меня, а у духовных спроси; но первое благословение всегда бывает самое выдающееся. Яков надел себе на руки овечьи паглинки и первое выдающееся благословение себе и сцапал, а Исаву осталось второе. Второе благословение – это уже не первое. В здешнем месте уж замечено, что самое выдающееся – это то, где его раньше получат. Там и исполнение будет и в деньгах и от вифлиемции, а что позже пойдет, то все будет слабее. «Сила его исходяще и совещающе».
– Вот это я помню, что об этом я где-то учила, – вставила Аичка.
– Нет, а я хотя об этом и не учила, а взяла да свою записку сверху других и положила, но риндательша меня оттолкнула и говорит: «Пожалуйста, здесь не распоряжайтесь». Однако он мое письмо прочитал и говорит:
«Вы сами, или нет, Степенева?»
«Никак нет, – говорю, – я простая женщина».
Он перебил:
«Все простые, но ведь есть еще Ступины или Стукины».
«Нет, – отвечаю, – я не от тех, я от Степеневых. Дом выдающийся».
«Кто у них болен?»
«Никто, – отвечаю, – не болен: все, слава богу, здоровы».
«Так о чем же вы просите?»
Отвечаю:
«Я по их поручению: просят вас к себе и желают на добрые дела пожертвовать».
«Хорошо, – говорит, – я послезавтра буду, и ожидайте».
Я благословилась и с первым отходом еду назад с ажидацией. И на душе у меня такая победная радость, что никому я не кланялась и ничего не дала ни певцу, ни севцу, ни риндательше, а все так хорошо и легко обделала. Всем, кто вместе со мною возвращается, я как сорока болтаю: вот послезавтра он у нас первых будет, мне велел себя ждать с каретою. Расспрашивают: как моя счастливая фамилия? А я по своей простоте ничего дурного не подозреваю и всем, как дура, откровенно говорю, что моя фамилия ничтожная, а счастливая фамилия – это выдающиеся купцы Степеневы. Тут еще спор вышел из-за того, что это – фамилия выдающаяся или не выдающаяся. Только один повар вступился:
«Я, – говорит, – знаю фруктовщиков Степеневых, так те выдающиеся: я через них у генерала места лишился за то, что они мне фальшивый сыр подвернули».
А другие пассажиры совсем будто никаких Степеневых не знают, а я им сдуру и пошла все расписывать – совсем и в понятии не имею, чтт из этого при человеческой подлости может выйти.
– А что же выйдет? – протянула Аичка.
– Ах, какой форт ангейль вышел! Вдруг на меня напал ташкентский офицер и начал кричать: «Замолчите вы, пустозвонка! мне вас скверно слушать, вы меня раздражаете! Я этому человеку в его святость совсем не верю: я вот к нему со своею больною двенадцать рублей проездил, а он мне всего десять рублей подал! Это подлость! Пьет из ушата, а цедит горсточкой; а его подлокотники в трубы трубят и печатают. Это базар!»
Всё от его крика даже присмирели, потому что вид у него сделался очень жадный: жене он швырнул два баранка, как собачоночке, а сам ходит и во все стороны глаза мечет.
Люди тихо говорят: «Не отвечайте ему, – это петриот механику строит».
Но один лавочник его признал и пояснил:
«Никакой он, – говорит, – не петриот, а просто мошенник, и которую он несчастную женщину при себе за жену возит – она ему вовсе не жена, а с постоялого двора дурочка».
И точно, только что мы приехали и стали вылезать, к нему сейчас два городовых подошли и повели его в участок, потому что эту женщину родные разыскивают.
Повздыхали все: ах, ах, ах! какая низость! какой обман! И подивились, как он ничего этого не прозрел! А потом испугались. Да и где можно все это проникать в такой сутолоке! И рассыпались все по своим домам.
Приезжаю и я прямо к Маргарите Михайловне и говорю ей: «Креститесь и радуйтесь, бог милость послал. Послезавтра на нашей улице праздник будет, и вас счастье осенит: я согласие получила, и утром мне надо ехать встречать его на ажидации».
Все тут обрадовались, и Маргарита Михайловна и Ефросинья Михайловна, и начали меня расспрашивать: узнала ли я, чем его принимать и просить. Я говорю: «я все узнала, но не надо ничего особенно выдающегося, кроме чаю с простой булкой и винограду; а если откушать согласится, то надо суп с потрохами».
«А может быть, какого-нибудь вина превосходного?»
«Вина, – говорю, – можно подать только превосходной мадеры, но, самое главное, вы сейчас разрешите, кто поедет его встречать на ажидацию: вы ли сами, или я, или Николай Иваныч, если он в своей памяти. По-моему, всех лучше Николай Иваныч, так как он мужчина и член в доме выдающийся. Только если он теперь опять не с буланцем».
Решили, что Николай Иваныч и я вдвоем поедем. Как-нибудь уж его на этот час уберечь можно. Оттуда Николай Иваныч пусть с ним вместе в карету усядется, а я назад на пролетках приеду.
На счастие наше, Николай Иваныч ввечеру явился в раскаянии и в забытьи: идет и сам впереди себя руками водит и бармутит:
«Дорогу, дорогу… идет глас выпивающий… уготовьте путь ему в пустыне… о господи!»
Да и застрял в углу и начал искать чего-то у себя по карманам.
Я подошла и говорю:
«Чего, опять вчерашнего дня небось ищете? Удаляйтесь скорей на покой».
А он отвечает:
«Подожди… тут у меня в кармане очень важный сужект был, и теперь нет его».
«Какой же сужект?»
«Да вот Твердамасков мне с Крутильды пробный портрет безбилье сделал, и я его хотел сберечь, чтоб никому не показать, да вот и потерял. Это мне неприятно, что его могут рассматривать. Я поеду его разыскивать».
«Ну уж, – говорю, – это нет. Попал домой – теперь типун, больше не уедешь, – и мы его на все два дня заперли, чтоб опомнился».
И спала я после этого у себя ночь, как в раю, и всё вокруг меня летали бесплотные ангелы – ликов не видно, а этак всё машут, всё машут!
– Какие же они сами? – полюбопытствовала Аичка.
– А вот похожи как певчие в форме, и в таких же халатиках. А как сон прошел и начался другой день, то начались опять и новые мучения. С самого раннего утра стали мы хлопотать, чтобы все к завтрему приготовить. И всё уже они без меня и ступить боятся: мы с Ефросиньюшкой вдвоем и в курятную потроха выбирать ходили, чтобы самые выдающиеся, и Николая Иваныча наблюдали, а на послезавтра, когда встрече быть, я сама до света встала и побежала к Мирону-кучеру, чтобы он закладывал карету как можно лучше.
А он у них престрашный грубиян и искусный ответчик и ни за что не любит женщин слушаться. Что ему ни скажи, на все у него колкий ответ готов:
«Я сам все формально знаю».
Я ему говорю:
«Теперь же нынче ты не груби, а хорошенько закладывай, нынче случай выдающийся».
А он отвечает:
«Ничего не выдающее. Мне все равно: заложу как следно по форме, и кончено!»
Но еще больше я беспокоилась, чтобы без меня Клавдинька из дома не ушла или какую-нибудь другую свою трилюзию не исполнила, потому что все мы знали, что она безверная. Твержу Маргарите Михайловне:
«Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь выдающегося».
Маргарита Михайловна сказала ей:
«Ты же, Клавдюша, пожалуйста, нынче куда-нибудь не уйди».
Она отвечает:
«Полноте, мама, зачем же я буду уходить, если это вам неприятно».
«Да ведь ты ни во что не веришь?»
«Кто это вам, мамочка, такие нелепости наговорил, и зачем вы им верите!»
А та обрадовалась:
«Нет, в самом деле ты во что-нибудь веруешь?»
«Конечно, мама, верую».
«Во что же ты веруешь?»
«Что есть бог, и что на земле жил Иисус Христос, и что должно жить так, как учит его Евангелие».
«Ты это истинно веришь – не лжешь?»
«Я никогда не лгу, мама».
«А побожись!»
«Я, мама, не божусь; Евангелие ведь не позволяет божиться».
Я вмешалась и говорю:
«Отчего же не побожиться для спокойствия матери?»
Она мне ни слова; а та ее уже целует с радости и твердит:
«Она никогда не лжет, я ей и так верю, а это вот вы все хотите, чтобы я ей не верила».
«Что вы, что вы! – говорю я, – во что вы хотите, я во все верю!»
А сама думаю: вот при нем вся ее вера на поверке окажется. А теперь с ней разводов разводить нечего, и я бросилась опять к Мирону посмотреть, как он запрягает, а он уже запрег и подает, но сам в простом армяке.