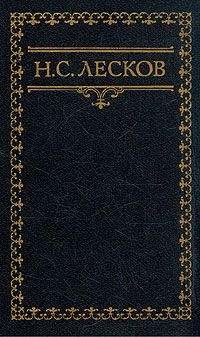Я ему говорю:
«Теперь же нынче ты не груби, а хорошенько закладывай, нынче случай выдающийся».
А он отвечает:
«Ничего не выдающее. Мне все равно: заложу как следно по форме, и кончено!»
Но еще больше я беспокоилась, чтобы без меня Клавдинька из дома не ушла или какую-нибудь другую свою трилюзию не исполнила, потому что все мы знали, что она безверная. Твержу Маргарите Михайловне:
«Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь выдающегося».
Маргарита Михайловна сказала ей:
«Ты же, Клавдюша, пожалуйста, нынче куда-нибудь не уйди».
Она отвечает:
«Полноте, мама, зачем же я буду уходить, если это вам неприятно».
«Да ведь ты ни во что не веришь?»
«Кто это вам, мамочка, такие нелепости наговорил, и зачем вы им верите!»
А та обрадовалась:
«Нет, в самом деле ты во что-нибудь веруешь?»
«Конечно, мама, верую».
«Во что же ты веруешь?»
«Что есть бог, и что на земле жил Иисус Христос, и что должно жить так, как учит его Евангелие».
«Ты это истинно веришь – не лжешь?»
«Я никогда не лгу, мама».
«А побожись!»
«Я, мама, не божусь; Евангелие ведь не позволяет божиться».
Я вмешалась и говорю:
«Отчего же не побожиться для спокойствия матери?»
Она мне ни слова; а та ее уже целует с радости и твердит:
«Она никогда не лжет, я ей и так верю, а это вот вы все хотите, чтобы я ей не верила».
«Что вы, что вы! – говорю я, – во что вы хотите, я во все верю!»
А сама думаю: вот при нем вся ее вера на поверке окажется. А теперь с ней разводов разводить нечего, и я бросилась опять к Мирону посмотреть, как он запрягает, а он уже запрег и подает, но сам в простом армяке.
Я зашумела:
«Что же ты не надел армяк с выпухолью?»
А он отвечает:
«Садись, садись, не твое дело: вьпухоль только зимой полагается».
Вижу его, что он злой-презлой.
Николай Иваныч сел смирно со мною в карету, а две дамы дома остались, чтобы нас встретить, а между тем с нами начались такие выдающиеся приключения, что превзошли, всё, что было у Исава с Яковом.
– Что же это случилось? – воскликнула Аичка.
– Отхватили у нас самое выдающееся первое благословение.
– Каким же это манером?
– А вот это и есть Моисей Картоныч!
Приехали мы с Николаем Иванычем в карете – он со всеми принадлежностями, с ктиторской медалью на шее и с иностранным орденом за шахово подношение, а я одета по обыкновению, как следует, скромно, ничего выдающегося, но чисто и пристойно. А народу совокупилась непроходимая куча, и стоит несколько карет с ажидацией, и на простых лошадях и на стриженых, – на козлах брумы с хлопальными арапниками, и полицейские со всеми в рубкопашню бросаются – хотят всех по ранжиру ставить, но не могут.
Помощник пристава тут же, как встрепанный воробей, подпрыгивает и уговаривает публику:
«Господа! не безобразьте!.. все увидите. Для чего невоспитанность!»
Я думаю, вот этот образованный! и подхожу к нему и прошу, чтобы велел нашу карету впереди других поставить, потому что нам назначена первая ажидация; но он хоть бы что!.. на все мои убедительные слова и внимания не обратил, а только все топорщится воробьем и твердит: «Что за изверги христианства! Что за свинская невоспитанность!» А я вдруг замечаю, что здесь же в толпучке собрались все мои третьеводнишние знакомые, с которыми я назад ехала, и особенно та благочестивая старушка, у которой весь дом от вифлиемции болен, и я ей все рассказывала.
«Вот и вы, – говорит, – здесь?»
«Как же, – отвечаю я, – здесь; к нам ведь к первым обещано».
«Вы ведь от Степеневых, кажется?»
«Да, – отвечаю, – я от Степеневых, – в их карете, – Мирон-кучер».
«Ах! – говорит, – Мирон-кучер…»
А тут весь народ вдруг вздрогнул, и стали креститься, и уж как попрут, то уж никто друг друга и жалеть не стал, но все как дикий табун толпучкою один другого задавить хотят… Раздался такой стон и писк, что просто сказать, как будто бы все люди озверели и друг друга задушить хотят!
Помощник уж не может и кричать больше, а только стонет: «Что за изверги христианства! Что за скоты без разума и без жалости!» А городовые пустились было в рубкопашную, но вдруг протиснулись откуда-то эти тамошние бургонские рожи – эти басомпьеры, – те, которые про спящих дев говорили, – и враз смяли всех – и городовых и ожидателей! Так и смяли! Обхватили его, и прут прямо к каким знают каретам, и кричат: «Сюда, сюда!» – и даже, я слышу, Степеневых называют, а меж тем в чью-то не в нашу карету его усадили и повезли.
Я стала кричать:
«Позвольте! ведь это немыслъмо – это… не от Степеневых карета… у нас Мирон-кучер называется!»
А меж тем его обманом усадили в другую карету, с той самой старушкой, с моей-то с благочестивой попутчицей, у которой все в вифлиемции, и увезли к ней!
Аичка вмешалась и сказала:
– Что же – это так и следовало.
– Почему?
– У нее больные, а у вас нет.
Мартыновна не стала спорить и продолжала:
– Я к помощнику, говорю:
«Помилуйте, господин полковник, что же это за беспорядок!»
А он еще на меня:
«Вам, – говорит, – еще что такое сделали? Язычница! вы больше всех лезли. Что вам на любимую мозоль, что ли, кто наступил? Вот аптека, купите себе пластырю».
«Не в аптеке, – говорю, – дело, а в том, что мне была назначена первая ажидация, а ее нет».
«Чего же вы ее не ухватили – ажидацию-то?»
«Я бы ухватила, а от полиции порядка не было – вы видели, что мне и подойти было немыслимо, у меня выхватили…»
«Что у вас выхватили?»
«Отсунули меня…»
«А у вас ничего не украдено?»
«Нет, не украдено, а сделан обман ажидации».
А он на это рукою махнул.
«Экая важность! – говорит, – это и часто бывает».
И больше никакого внимания.
«Ну вас, – говорит, – совсем, отстаньте».
Я к Николаю Иванычу, который в карете уселся, и говорю ему:
«Что же здесь будем стоять, надо за ними резво гнаться и взять хоть со второй ажидации».
Он отвечает, что ему все равно, а Мирошка сейчас же спорить:
«Гнаться, – говорит, – нельзя».
«Да ведь вот еще их видно на мосту. Поезжай за ними, и ты их сейчас догонишь».
«Мне нельзя гнаться».
«Отчего это нельзя? Ты ведь всегдашний грубец и искусный ответчик».
«То-то и есть, – говорит, – что я ответчик: я и буду в ответе; ты будешь в карете сидеть, а меня за это формально с козел снимут да в полиции за клин посадят. Во всю мочь гнать не позволено».
«Отчего же за ними вон в чьей-то карете как резво едут?»
«Оттого, что там лошади не такие».
«Ну, а наши какие? Чем хуже?»
«Не хуже, а те – аглицкие тарабахи, а наши – тамбовские фетюки: это разница!»
«Да уж ты известный ответчик, на все ответишь, а просто их кучер лучше умеет править».
«Отчего же ему не уметь править, когда ему их экономка при всех здесь целый флакон вишневой пунцовки дала выпить, а мне дома даже пеклеванник с чаем не дали допить».
«Ступай и ты так поспешно, как он, тогда и я тебе дома цельную бутылку пунцовки дам».
«Ну, – говорит, – в таком разе формально садись скорей».
Села я опять в карету, и погнали. Мирон поспевает: куда они на тарабахах, туда и мы на своих фетюках, не отстаем; но чуть я в окно выгляну – всё мне кажется, будто все кареты, которые едут, – это всё с ажидацией. Семь карет я насчитала, а в восьмой увидала – две дамы сидят, и закричала им:
«Отстаньте, пожалуйста, – это моя ажидация!»
А Николай Иванович вдруг рванул меня сзади изо всей силы, чтобы я села, и давленным, злым голосом шипит:
«Не смейте так орать! мне стыдно!»
Я говорю:
«Помилуйте! какой с бесстыжей толпучкой стыд!»
А он отвечает:
«Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она мне может через одно лицо самый неприятный постанов вопроса сделать».
И опять так меня рванул, что платье затрещало, и я его с сердцов по руке, а по дверцам локтем, да и вышибла стекло так, что оно зазвонило вдребезги.
К нам сейчас подскочил городовой и говорит:
«Позвольте узнать, что за насилие? О чем эта дама шумят?»
Николай Иваныч, спасибо, ловко нашелся:
«Оставь, – говорит, – нас: эта дама не в своем уме, я ее везу в сумасшедший дом на свидетельство».
Городовой говорит:
«В таком разе проследуйте!»
Опять погнались, но тут как раз впоперек погребальный процесс: как назло, какого-то полкового мертвеца с парадом хоронить везут, – духовенства много выступает – все по парам друг за другом, в линию, архирей позади, а потом гроб везут; солдаты протяжно тащатся, и две пушки всем вслед волокут, точно всей публике хотят расстрел сделать, а потом уж карет и конца нет, и по большей части все пустые. Ну, пока всё это перед своими глазами пропустили, он, конечно, уехал, и тарабахи скрылись.
Поехали опять, да не знаем, куда ехать; но тут, спасибо, откуда-то взялся человек и говорит:
«Прикажите мне с кучером на козлы сесть – я сопоследователь и знаю, где первая ажидация».
Дали ему рубль, он сел и поехал, но куда едем – опять не понимаю. Степеневых дом в Ямской слободе, а мы приехали на хлебную пристань, и тут действительно оказалась толпучка народу, собралась и стоит на ажидации… Смотреть даже ужасти, сколько людей! А самого-то его уже и не видать, как высел, – и говорят, что насилу в дом проводили от ожидателей. Теперь за ним и двери заключили, и два городовых не пущают, а которые затрубят, тех пожмут и отводят.