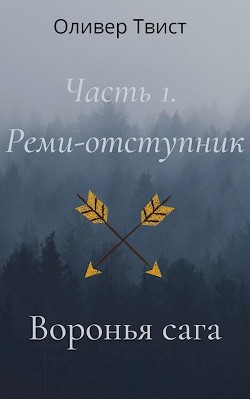зимней ночью. Ален жил в Провансе и в этот год часто наведывался в Москву, потому что вел переговоры с чиновниками из Министерства внутренних дел и администрации Звездного городка. Его продюсерский центр планировал выпустить сагу о советской космонавтике для каналов BBC, ZDF и «Россия». Его задача была в том, чтобы выкупить право на использование архивных съемок в несколько тысяч часов, которые ФСБ недавно рассекретила и теперь ждала, кто больше заплатит. Ален целые дни топтал линолеум коридоров, по которым бизнесмены с телосложением боксеров и чиновники с прилизанными волосами водили его на бесполезные переговоры и беседы под стук рюмок с водкой. И уже неделю он каждый вечер проводил в клубе «100», чтобы как-то перебить вкус этих бестолковых часов. В один из вечеров ему представили Татьяну, и он, казалось, был рад болтать с ней о Гагарине, спутниках и Лайке, первой собаке-космонавтке. Он выпил яблочной водки, потом еще стопку – черничной. Танцевал с Таней и остался смотреть, как она обвивает блестящий шест, будто насаживает себя на вертел, а в три часа ночи внезапно ушел, пообещав прийти завтра. Что он и сделал, и на следующий день – тоже. Он ничего не просил – только говорил с ней, лихорадочно опустошая рюмки и громко стуча ими по стойке, видимо, думал, что это русская традиция. Он просил Татьяну рассказать ему про Томск, уверял, что Прованс – лучшее место на Земле, а Сен-Реми – просто благоухающий рай. Она не могла сказать того же о своей малой родине и просто описала ему один день в Стрежевом – вечность, иными словами. В очередную пятницу он объявил ей, что договор на архивные съемки у него в кармане, и велел налить всем девушкам по бокалу за его счет. Они занялись любовью в комнате клуба «100», под взглядами золоченых гипсовых кариатид, охранявших балдахин с турецко-вагнеровскими мотивами. Византийские веяния наложили свой отпечаток на вкусы Руперта. Потом они перешли в пенную джакузи, попивая «Шато д’Икем». Татьяна, как русская девушка, пила только десертные вина.
На следующий день они встретились в гостинице «Украина», куда Ален переехал, потому что там никому не было дела, кто проходит с жильцами в комнаты. Они поужинали в окружении мрамора и на борту лифта с отделкой из редких древесных пород поднялись в комнату, где старые обои заглушали крики Алена – ив криках его не было бранных слов. В этот раз Таню не раздражало все то, что идет до введения члена, чему она сама удивлялась. Более того, даже снова одевшись, Ален не утратил к ней интереса.
На тумбочке она заметила «Письма» Флобера и сказала между делом, в облаке дыма от «Крейвен А», что в основе ее универского диплома как раз был анализ описаний тополей в Круассе. Он посмотрел на нее пристально. Признание в любви всегда начинается с самовнушения. Он только что решил, что любит ее. Оставалось только сообщить это ей. На то и есть ужины. Вечером он подарил Тане букет, довольно уродливый на ее взгляд: московские флористы везли тюльпаны из Голландии, и лепестки были как пластмассовые. Он предложил увезти ее во Францию. Она ответила, что он слишком торопится. На что он возразил, что биография Гагарина научила его ничего не откладывать. Он думал добавить, что зовет ее в Космос, но не стал – вспомнил про Лайку. Он был довольно неуклюж, удивительно волосат и много ел. Он описал ей свой домик у хребта Альпий. И свое одиночество, жизнь по расписанию, тишину по ночам – это-то признание и тронуло Татьяну. Она увидела себя перед зеркалом в Стрежевом и решила сказать «да». Для приличия она еще возразила что-то про визу. Ален знает посла, а свадьба решит все проблемы, она получит вид на жительство раньше, чем выберет платье. Он часто ездит в Париж и в Лондон. Она будет совершенно свободна, весь Прованс в ее распоряжении, а он будет приезжать на выходные и возить ее в путешествия. Он уже видел, как гуляет с ней под руку по рынку Сен-Реми, по Парижу. И смеялся про себя, представляя взгляды его друзей. Эти мелкие мещане, соцдемократы, ничего не знающие о людских трагедиях, будут звать ее про себя «русской шлюшкой», это ее, которая прочла, пережила и преодолела больше, чем все они вместе взятые.
Это вломилось солнце. Его средиземноморские лучи лупили как кувалда, унося все надежды. Здешнее солнце даже из пророка сделает нигилиста. Когда-то оно отняло у Камю всю радость жизни, а теперь мучило молодых алжирцев, сидевших на пирсе, и уже два года пыталось раздавить Татьяну. Уехав из России, она поселилась здесь, у Алена, под платанами Сен-Реми. Развалившись на кожаном диване в гостиной, она приоткрыла один глаз. Стрелки «Мобуссена» на запястье делили циферблат пополам. Половина первого. Она нажала на клавишу: металлические ставни опустились и закрыли окно в пол, а с ним и раскаленную добела цепь Альпий. И голубой блик от бассейна больше не плясал на бархатном натяжном потолке. Бутылки выпитого накануне бордо производили тот же эффект, как если бы она разбила их о голову. Танин в «Шато Клерк Милон» не разучился творить свои бесчинства с 1975 года. В пять вечера она встала, заварила ассам (от чайного дома братьев Дамманн) и выпила его маленькими глотками в полумраке. Потом набрала ванну из каррарского мрамора и вяло опустилась в ванильную пену, которая накрыла горячую воду слоем трескучих пузырьков. И стала ждать, когда стихнет молот мигрени.
Накануне стены их с Аленом спальни перекрасили по ее заказу в пепельный оттенок от Farrow & Ball, и она решила отметить это, выпив вина, глядя на розовеющие известняковые скалы. Она вырубилась после второй бутылки, когда солнце уже спустилось за гребни гор. Поселившись в Реми, Таня много часов провела перед этим окном. Хребет Альпий загораживал мир белой волной. У подножия – лавандовый ковер равнины. Ален возил ее по горам: и к Сент-Бом, и к Сент-Виктуар, и к Ванту. И везде – вздыбленная порода, стена на фоне однообразного неба. Прованс – большое поле с ненужными крепостными валами. Следами тектонического кутежа.
Жизнь ее текла между окном, ванной и кухней, где, стоя за обсидиановой столешницей, она посыпала пармезаном свежайшие карпаччо. Временами на фоне этого тягомотного существования объявлялся Ален. Он возникал из-за пышных букетов, заваливал ее вниманием и удалялся в клубах обещаний не уезжать так надолго. Иногда – пара слов с садовником, курьером или оформителем, называвшим себя «архитектор интерьеров», прерывала кондиционированную тишину. Это были люди говорливые, услужливые и совершенно бессовестные. Ее раздражали их