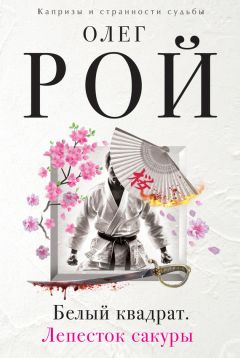детей – дескать, куда глядели. Дети и сами испуганы И хотя над аулом нависает тишина, в ней таится что-то опасное.
С того дня я выхожу из юрты только в самый зной, когда в степи ни одной живой души – не то что тушканчики не прыгают на своих задних лапах, даже ящерицы неподвижно лежат в колючках или прячутся в пыли. Ночь тоже моя, но апа боится за меня и под звездным небом. Однажды она видела, как я долго-долго стою под звездами и протягиваю к ним руки. Женщина решила, что я тоже хочу туда. Нет, не хочу. Так и говорю об этом апа. Не замечаю при этом, что действительно говорю, а не показываю, как прежде, жестами, взаправду говорю словами, да еще на языке. понятном моей слушательнице. Даже умная апа не сразу замечает это, то есть без всякого удивления слушает меня, но уже через мгновение застывает в недоумении, а потом расплывается в улыбке. А я все говорю и говорю о том, что не надо бояться за меня. Никуда я не уйду из своего дома, от своих братьев и сестер, от апы. В ту ночь мы долго стояли под звездами. Апа что-то рассказывала и рассказывала мне, но, надо признаться, не все понимаю. Или думаю, что не все понимаю, а на самом деле ухватываю суть ее слов. Муж! Ее муж, отец ее детей, там, на войне. С немцами! Кто такие немцы? Пожимаю плечами: нет, не знаю, кто такие немцы. Апа всплескивает руками, показывает на меня, дескать, такими, как я. Но я уже, видно, совсем ничего не понимаю: причем здесь я? Нет, не совсем такими. А большими. Она показывает: взрослыми. Снова не понимаю. А-а-а… муж воюет с фашистами. И тут вспоминаю: что-то говорили об этом в школе. Но какое это имеет отношение ко мне? И кто с ними воюет и зачем?! Из нашей деревни тоже уходили на войну с этими фашистами. Но я уже ничего не помню. И какая наша деревня?! Все это было давно, в другой жизни – будто выдумано. Вот моя деревня – аул. Вот мой дом – юрта.
Апа снова говорит про мужа и начинает плакать. Совсем теряюсь: апа обычно такая веселая, сильная и смелая – таких не приходилось видеть. А сейчас она утирает ладонью свои слезы. Пытаюсь сложить слышанное когда-то странное слово Faschisten на мой новый язык и шепчу: апа, мы с твоим мужем обязательно, непременно победим этих фашистов. Во что бы то ни стало. Апа смеется сквозь слезы. Но я без слов понимаю, что ей хочется остаться под этим высоким звездным небом одной. Совершенно одной. Точнее, с ним, о котором она только что говорила и о котором беспрестанно думает – день и ночь, ночь и день.
Делаю несколько шагов и оборачиваюсь: апа подняла руки к небу и о чем-то просит его. Тихонько раскачивается из стороны в сторону и молит-просит небо. Алла! Да, Алла, я тоже прошу тебя: сделай так, чтобы муж апы остался цел и невредим. Алла! Будь так добр, Алла, пусть он вернется домой. Может быть, конечно, он будет сердиться из-за того, что в его юрте теперь живу и я и из-за того, что одни лишь беды от меня. Но, Алла, пусть он меня выгонит в степь, только вернется. И я тогда увижу апа счастливой и спокойной. Алла, ты не можешь не откликнуться на мою просьбу. Как там меня учили молиться Богу? Mein Gott! Gottessohn! Jesus Christus! Мой Бог. Сын Божий. Иисус Христос! Не могу вспомнить, какие слова идут дальше. Но это неважно! О, Алла! (Перекрещиваюсь от лба к животу, а затем слева направо). О, Алла, будь милостив. Так и молились мы – каждый по-своему, но об одном, и не разным, а одному, единому Богу.
И Бог услышал наши мольбы. Только понимаю это не сразу. Уже потом думаю, что в то утро можно было подумать, будто, наоборот, Бог оставил нас. Но начну все по порядку. Крепко-крепко сплю. То ли мне кажется, то ли действительно вижу во сне Бога. Точнее, не вижу (как Его можно видеть!), а ощущаю Его присутствие. Слышу голос. В тот самый момент, когда собираюсь вскочить и идти за этим голосом, вдруг врываются другие голоса, только людские. Все еще не могу, а главное, не хочу открыть глаза, но от криков и причитаний, что окружили плотной стеной нашу юрту, готовы лопнуть перепонки. Это же не просто крик, а плач, какой-то вселенский плач. А-а-а… Этот плач можно безошибочно узнать, хотя прежде мне не приходилось его слышать. У нас в селе, в той жизни, так не полагалось плакать – даже по покойнику. Все должно быть сдержанно и строго. Но здесь сразу догадываюсь, что так оплакивают лишь смерть, только такую потерю. Но почему столько голосов одновременно? Пытаюсь их сосчитать – не получается. Это целый хор, жуткий в своей стройности. Отчего только в нем еще помимо дыхания ледяного полюса смерти, неожиданного под испепеляющим солнцем, есть что-то и другое – сделанное, предназначенное устрашить, нет, не смерть, а пожалуй, всех, кто обитает здесь, в этой юрте. А главное (или это только мерещится?) – меня?
Все дети сбились вокруг апы. Я же не смею приблизиться. Что-то они все знают такое, что касается лишь их. Они и радостны и испуганы одновременно. Но апа не забывает обо мне, зовет к себе движением руки. Как мне этого хотелось – заткнуть уши и прижаться к ней. Но она убеждает, что ее надо слушать и постараться понять то, что она говорит…
Итак, рано утром, почти еще до восхода солнца в аул снова приехал тот джигит, которому апа отдала свои украшения. Хотя он въехал в аул тихо и незаметно, все жители аула сразу же догадались: что-то произошло, и высыпали на пятачок между юртами. Все со страхом глядели на серую кожаную сумку, что через плечо висела на джигите. Никто не произносил ни звука. Молчали и ждали, впившись глазами в эту серую кожаную сумку и в лицо мужчины. Помедлив и как будто раздумывая, стоит ли это делать, он опустил руку в сумку и достал пачку писем. (Он еще был и почтальоном, не только главным над всеми этими людьми). Снова помедлил, раздумывая, с кого начать. А потом быстрым движением вытащил один из треугольников и протянул первой же стоявшей перед ним женщины. Потом второй. Третьей. Четвертой. Пятой…