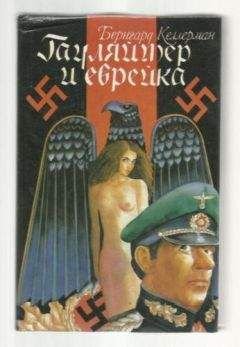приехала к нему не с пустыми руками! Она скопила, как уже писала ему, восемьсот марок и эти деньги тоже привезла ему, он может истратить их на достройку дома. А затем можно будет построить маленький хлев и купить на откорм пару свиней. Можно завести и кур. Эльзхен смотрела на будущее уже не так безнадежно, и Рыжий тоже воспрянул духом.
Нет, нужды терпеть им не придется! Он с воодушевлением заговорил о своем саде: в нем прекрасная, жирная земля, а из лесу он натаскал болотной земли и перегною, около ста мешков. Вот она посмотрит, какое здесь будет садоводство через два-три года. Свои овощи Рыжий сможет продавать в городе шутя — здесь ни у кого нет путного огорода. Он собирается завести и пчел. Да что там говорить, Эльзхен тут обживется! И, главное, это ее собственный дом, — пусть маленький, но ей незачем больше надрываться, работая на других.
— Еще бутылочку пивка, Эльзхен? Пива еще много.
Эльзхен выпила еще бутылку пива. Да, да, конечно, она и сама все это понимает, а если давеча она заговорила о больших комнатах на лесопильне, он не должен обижаться — она просто устала с дороги.
Да он вовсе и не думал обижаться, — возразил Рыжий и в первый раз осмелился прикоснуться к ее руке. Эльзхен стала ему почти чужой. Пять лет — срок немалый!
Эльзхен устала и захотела лечь спать. Но уснуть они не могли — они говорили и говорили без конца. Среди ночи Эльзхен рассмеялась и сказала:
— У меня не восемьсот марок, Петер, а тысяча двести. Можешь делать с ними что хочешь. Завтра я их тебе отдам.
Что с Бабеттой? Лицо у нее расстроенное, лоб стал совсем низкий — так сбежались на нем морщины. Глаза красные, воспаленные, она не росится больше с горы и на гору, ходит задумчивая и часто разговаривает сама t собой. Ее прямо не узнать.
С Германом она говорила лишь о самом необходимом, нисколько не скрывая своего недовольства им, и ему начало становиться не по себе. У него появилось нечто вроде угрызений совести, хотя он ни в чем не мог себя упрекнуть. С задумчивым выражением лица трудился он с утра до вечера, обрабатывая поля. Ну, в конце концов пусть Бабетта думает о нем, что ей угодно, в этом единственном вопросе он останется тверд и непреклонен.
Наконец он не выдержал.
— Что с матерью? — спросил он как-то вечером Альвину.
— С матерью? — уклончиво ответила Альвина. — С матерью ничего. Дело касается Христины.
— А что с Христиной?
— Она кашляет. Но самое худшее — то, что она перестала спать.
— Перестала спать?
— Да. Как видно, все, что случилось, сильно подействовало на нее.
Наутро Герман, как обычно, пошел за плугом. В этот день он бранил лошадей, они никак не могли ему угодить. Перестала спать? Должно быть, она испортила себе в городе нервы, вот и расплачивается.
Но совесть его была все же неспокойна, он не знал почему. Ведь он ни в чем не может себя упрекнуть. Не он же в конце концов удрал в город, не правда ли?
Бабетта вышла из дому и стала подниматься в гору. Как часто в последнее время она говорит сама с собой и взволнованно размахивает при этом руками! Герман остановил лошадей и обернулся в ее сторону, явно поджидая ее. Ну и пусть ждет до седых волос. Бабетта сделала вид, будто что-то забыла, и вернулась в дом. Ах, Герман страшно разочаровал ее — вот как можно ошибиться в человеке! Она всегда думала, что он такой же, как его отец, старый Фасбиндер, — тот был олицетворение доброты. «Любовь — деяние, а не слово». Старый Фасбиндер бывал обеспокоен, стоило ему увидеть у кого-нибудь недовольное выражение лица, а Герман? Он упрям и бессердечен, он думает, как видно, что жизнь длинна и что можно вечно оставаться непримиримым и суровым? Ну, значит, он не понимает, как коротка жизнь.
Когда Бабетта снова вышла из дому, Герман все еще стоял с лошадьми и ждал. Он окликнул-ее и подошел.
— Мне нужно поговорить с тобой! — угрюмо проговорил он. — За что ты на меня сердишься?
Бабетта потупилась.
— Сержусь? Я вовсе на тебя не сержусь!
Герман нахмурился. Но ведь он ясно чувствует, что она на пего сердится, что она им недовольна.
— Говори же, Бабетта!
Бабетта обмотала руку передником, затем размотала и вытерла ее, хотя рука вовсе не была влажной. Она помолчала, потом бросила на Германа укоризненный, почти злобный взгляд и вдруг крикнула:
— Ты ни о чем не спрашиваешь! Вот за что я на тебя сержусь.
Она кричала так громко, что Эльзхен, работавшая в своем огороде, выглянула из-за забора.
— Ты ни о чем не опрашиваешь! Человек может погибнуть, а ты ничего не спросишь — ни слова!
Значит, его вина в том, что он ничего не спрашивает?
Да, в этом его вина, и это большой грех — не спрашивать, — он ведь видит, что она чуть себе глаз не выплакала. Бабетта разрыдалась.
— Ну, успокойся, Бабетта, Эльзхен уже прислушивается.
— Пусть слушает!
Герман узнал сегодня многое. Битых полчаса стоял он с Бабеттой посреди поля. Лошади удивленно поворачивали морды в его сторону. Бабетта рассказала ему, как тяжело больна Христина. Это не легкая простуда, как он, может быть, воображает! Речь идет о жизни и смерти. Самое худшее то, что она уже много дней не может уснуть. Молодой доктор Бретшнейдер сказал, что так продолжаться не может. Раз человек не спит, откуда у него возьмутся силы? А как она кашляет! В каморке сыро, вообще во всем доме сырость, — чего уж они не перепробовали! Ей нужен, разумеется, тщательный уход, сказал доктор, и прежде всего сухая, теплая комната, в которой было бы достаточно света и солнца.
Герман озадаченно смотрел вниз. Он побледнел. Но ведь Христина может на некоторое время поехать в санаторий! Неужели она не хочет? После всего, что она пережила!
Бабетта посмотрела на него как на полоумного и язвительно рассмеялась. В санаторий? На какие средства? Неужели он не знает, что Шпан завещал все больнице? Дом, деньги и все! На какие же средства ехать?
Нет, этого Герман не знал, об этом ему никто не рассказывал.
— Вот что получается, когда не спрашивают! — насмешливо закричала Бабетта. — Теперь видишь, что получается? Так тебе и надо!
В этот вечер к ним пришел Рыжий, они собирались играть в карты. Но у Германа не было ни малейшего желания играть.