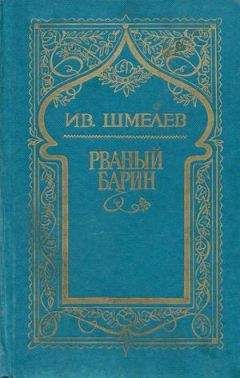На неделе забегала Тереза к Катринхен, выбирая вечер, когда приходили с поля. Торчала у закромов, куда Иван сваливал картофель. Показывал Иван перед ней силу, играл мешками, захватывая на шею по два. Кричал весело немцу:
– Нох, герр Браун! Наваливай! Афляден!
Швырял – посвистывал. Дивился немец: что за охота швыряться силой! А старая немка показывала глазами всегда смеющейся, белозубой Тильде, шепталась насчет Ивана. Иван понимал шепот: говорила Тильда, что Иван не слабее ее Фрица. Смеялся в усы: не раз видал, как поглядывает на него Тильда, закусывая полные губы-вишни: а раз даже задержалась в хлеву, под вечер, словно ждала чего-то. Не осмелел Иван: уж очень нарядная была Тильда, – а были будни, – надела розовую кофту с кружевной вставкой и короткую юбку – все толстые ноги видно. Часто потом вспоминал тот вечер, полные розовые локти и думал: «Дурак!»
Вскоре приехал на побывку к жене унтер-офицер Фриц, круглоголовый крепыш, со стеклянными голубыми глазами, черный с французского солнца. Забегали-зашумели в доме, зажгли в садике бумажные фонари. Закололи старого индюка на радости. И запыхавшаяся, праздничная вся, Тильда, в красной вырезной кофте, в той же короткой юбке, весело крикнула Ивану:
– Кобель приекаль!
Обучил ее так Иван: муж – по-нашему называется!
И наказала, посмеиваясь глазами, сходить в лавку и принести самого крепкого портеру бутылку и острого фаршированного перцу.
Сказал ей Иван:
– Сама-то жарчей перцу!
И опять подумал: «Ду-рак!»
III
Другой год кончался, как работал Иван на немца. В работу втянулся, говорил чужой речью, и уже сажали его немцы с собой обедать. Только всегда говорила немка:
– А руки вымыл, Иван? И смотрела Ивану в руки.
Пел Иван немецкие песни, ловко умел ругаться и даже заходил в кирку. Даже один езжал в город. Говорили про него в Грюнвальде:
– Русский Иван – золотой парень, парень – сила. Из него выйдет хороший немец.
Сам герр Браун порой даже спрашивал у него совета. Знал Иван и печное дело, и кирпичную кладку, а топором работал – приходили дивиться. Сказал немец к концу второго года:
– Кончится война, на родину не езди.
– Уеду обязательно, – сказал Иван. – Скучаю.
Получил как-то ржаных сухарей из дому. Писала ему каракулями Даша: «Очинь живетца плоха, ничево нету, дорогой братец…» Пошумел сухариками Иван, засмеялся… еще пошумел. Нагнулся к сухарикам в ящике, потянул дух сухарный, – и вспомнилось ему в сухарях многое. Не скоро заснул в ту ночь. А наутро показал немцу на ладони:
– Вот какой наш-то хлеб, герр Браун!
Похрустел немец, пожевал: кисло. Сказал: надо посыпать тмином.
– У нас посыпают солью, – хмуро сказал Иван. – Хлеб-соль.
С неделю ходил Иван не в себе, думал: «Живется плохо…» Мать увидал во сне: идет старуха полем пустым, снегами, – будто к нему идет, его ищет; а он, Ваня, в сугробе, голосу подать не может. Проснулся, немец на работу выстукивает. Ноготь соломорезкой сорвал в этот день Иван: не ладилась работа. А после работы, как сидели с хозяином на колоде, у сарая, сказал Иван:
– Работаю на вас, герр Браун, а вы и без моей работы богаты. А у меня мать-старуха без меня заслабла…
– Работаешь на нашу Германию, Иван. Ты пленный…
– Это не по правде. Это – как крепостное право было. А говорите, герр Браун, что у вас культура! Выходит – на людях ездите. Жалованья мне, по-нашему, два целковых…
Сказал ему Браун, что так говорить не надо, а то он заявит, как требуется по закону, и тогда могут послать в шахты.
– Оттуда не выходят!
– Знаю, – сказал Иван, – это, по-вашему, – культура!
Осерчал Браун, обозвал картофельной головой. Спросил:
– В какой газете читал такое?
– Это у меня тут написано, в картошке!
Чаще стала встречаться ему Тереза, в укромных местах перекидывались словечком.
В хмельнике раз, по осени, насыпал ей Иван полный передник хмельных бубенчиков, – просила на припарки для матери, фрау Виндэ. Вежливо поцеловал Иван холодные пальчики Терезы, а она дала ему из передника кисточку и, смеясь, сказала:
– Носите всегда с собой. Это вам на счастье.
– Волосы ваши буду помнить, – сказал ей Иван. – Как хмель, они золотые. С них у меня мутится…
Стыдливо засмеялась Тереза. Спросила удивленно:
– Где вы прочитали такое слово, Йоганн? Ведь вы русский…
– У нас на каждое дело свое слово!
Потянулся было к ее хмелевой головке, но она убежала.
Сунул кисточку в кисет с табаком и скурил – не заметил.
Нагнал как-то ее Иван по дороге в город. Было это в конце апреля. Синело небо, уже распускались полевые маргаритки. Шумело в ушах кровью, и жаворонки звенели, как под Тулой. И начинали хорошо пахнуть березы. Приметил Иван гнездышко розовых маргариток при дороге и остановил серую кобылу. Остановила свою пеганку и Тереза. Иван сорвал маргаритки и молча отдал. Тереза кивнула ему и сказала:
– Вы для меня остановились, чтобы нарвать маргариток! Нет, вы не дикий русский Иван, вы совсем наш, Йоганн. Из вас будет хороший немец…
Сказал ей Иван, оглаживая пегую кобылку:
– Запотела. А это, слышь, жаворонки поют… И у нас есть жаворонки… Самое им теперь время!
Она подняла синие глаза к небу: нет, не видно.
– А у вас, Йоганн, есть… щеглы?
– Сколько угодно. Орловские щеглы самые певкие… – сказал он, забыв, что она не поймет по-русски.
– Оставайтесь у нас, Йоганн. Отец охотно возьмет вас для хозяйства.
– Всякий меня возьмет на работу! – сказал Иван, подымая за колесо шарабан с Терезой. – Не бойтесь, не упадете. А чего мне тут делать? Приеду домой, женюсь… обзаведусь хозяйством. Теперь многому научился… Заплатил герр Брауну за науку. Буду и сам герр Браун!
– Какой вы… смешной! – воскликнула Тереза и хлопнула его по руке маргариткой. – А разве у нас вам плохо будет? Кончится война, и вы будете свободный! Можете тогда зарабатывать чем хотите! Вы сильный, вы можете много заработать!
Смешно стало Ивану. Запел весело, в полный голос:
Йех, журочка-журавель,
Журавушка-журавель!
Немец-перец колбаса,
Купил лошадь без хвоста!
Сказал ей песенку про немца, как задумал немец жениться, купил невесте корытце. Весело смеялась разрумянившаяся Тереза.
– И выходит, стало быть, дело за корытцем!
– Так что же? У нас есть красивые девушки… хороших семейств… Только надо иметь свое хозяйство. У вас там есть капитал, в России?
– Я сам – капитал! Сказал вчера сам герр Браун. Энтот все знает! Там у нас за меня пойдут и без капиталов!
– Да, конечно… – вздохнула Тереза, – но без денег жить трудно. Вы, Йоганн, мало знаете жизнь. У нас знает это всякий школьник.
Знал Иван, что нравится Терезе. Знал, что и она ему по сердцу, только строга, не как Тильда, с которой у него уже были сладкие минутки. И еще знал, от Тильды слышал, что Браун и Виндэ, отец Терезы, давно решили, что младший сын Генрих – теперь воюет во Франции – после войны женится на Терезе. И сказал прямо:
– По душе ты мне… а быть тебе за Генрихом, знаю ваши порядки.
Она залилась кровью и опустила глаза. Подумала и сказала тихо:
– А если… убьют…
Помешал им горбатый Мориц: нагнал на велосипеде. Тереза погнала кобылку, а Иван тронул шагом. И всю дорогу думал, какие чудные эти немки: скромницы, а такое скажут!..
Но веселая голубоглазая Тереза сильно его манила. Такой еще не было в его деревне.
Нежна уж очень! На барышень похожа из скворцовской усадьбы.
Вечером поймал он ее в хмельнике, за ригой. Пришла она слушать, как поет-чокает черный дрозд, подвешенный Брауном на высокой вехе, Иван взял ее руку, сдавил и сказал твердо:
– Вот что, слушай. На родину со мной поедешь? поженимся…
И крепко обнял. Дрозд сладко свистал над ними. Она прильнула к Ивану и сказала чуть слышно:
– Сегодня Генрих прислал письмо… едет в отпуск…
– Стало быть, не убили?.. – начал было Иван, жарко захватывая ее плечи, но она вырвалась и убежала в испуге.
Остался стоять Иван в вечереющем хмельнике, в голом лесу жердей. Стоял, поглядывал на дрозда, на пробивающиеся звезды. Стоял и свистал ему, свистал «чубарики». И дрозд тоже поглядывал на него и тоже свистал…
Когда вернулся Иван из хмельника, резко крикнула ему Тильда:
– Иван, мешки снять надо!
Иван пошел за ней в темную уже ригу. Она вдруг кинулась на него, цепко схватила его за плечи и затрясла в дрожи:
– Дьявол проклятый! дьявол неблагодарный! дьявол!! я теперь все знаю…
Иван захватил ее и сказал в ухо:
– Выпьем-ка за здоровье твоего Фрица, может, и убьют скоро?.
Она рванулась от него как шальная.
– Не смей! тьфу! не смей!! говорить так… глупо!
– А сама любишься, кошечка. – шептал ей, крепче захватывая ее, Иван, – Да не корежься… да не., вот вы… немки, какие… все чтобы чисто-гладко… по вашему закону выходило… Да ты послушай… дрозд-то как… заливается…