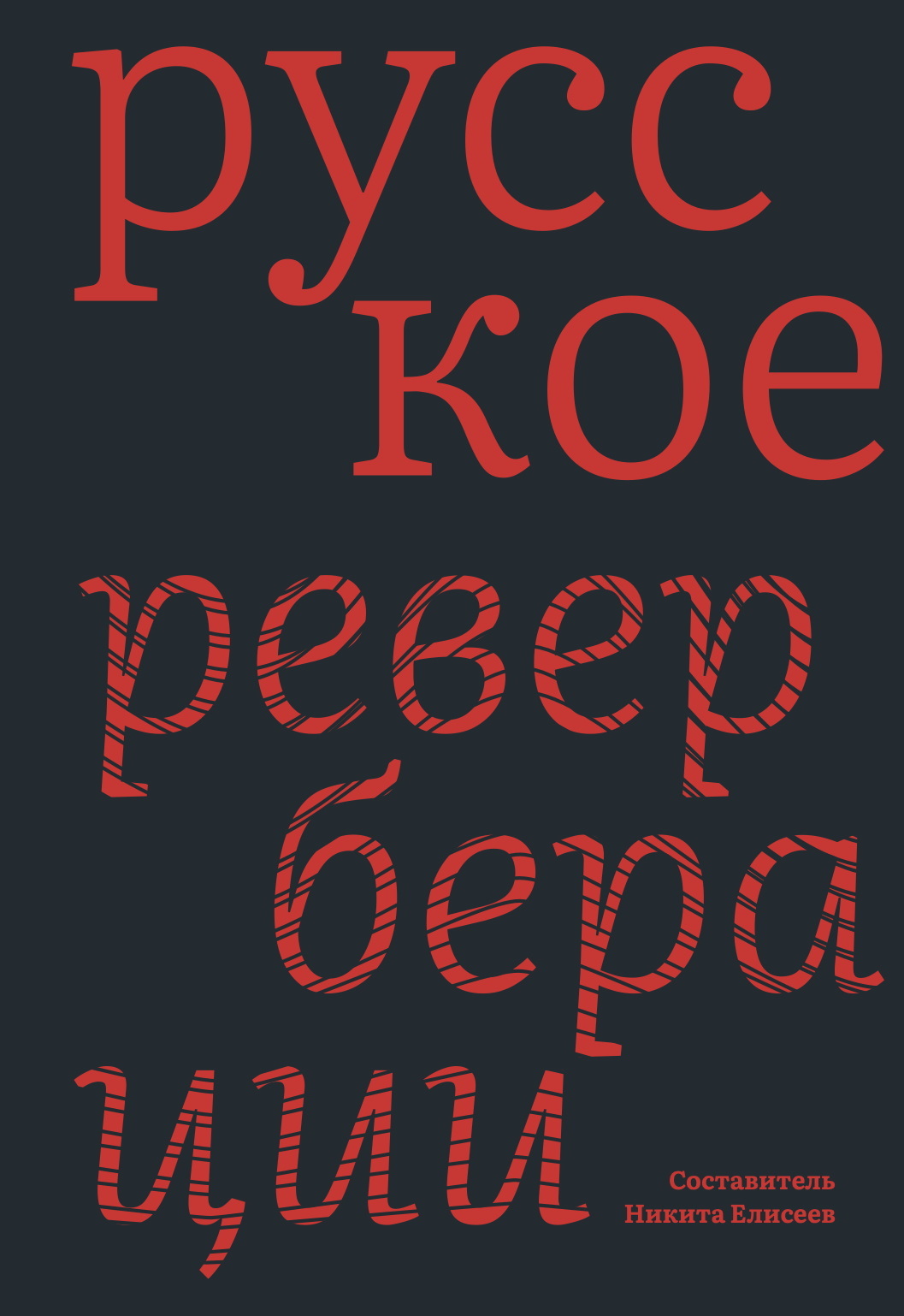стряхивая с дубаков небрежную разморенность, подтягивая их, а следом вышагивал уже навстречу колонне маленький полковник – начальник тюрьмы с еле умещающимся громадным золотом трехзвездья на узеньких плечах. Недалеко от «девять-восемь» был его рабочий кабинет, и эта начальственная близость тяжко отзывалась на всех камерах продола, но и поощряла на громкие протесты при многочисленных притеснениях тюремщиков, боящихся начальственного гнева куда более, чем арестанты. За «хозяином» бочком семенили дюжие его заместители, почтительно стараясь уменьшиться ростом, что им каким-то непостижимым образом удавалось.
Полковник со свитой остановились напротив малыша, и властная рука, порывшись в кармане сверкающего мундира, выставила перед глазами забледыша круглую жестяную красочную коробку. Майоры заулыбались, засветились, засияли крепкими зубами, тугими щеками, подмигивающими глазами. Скорее всего, коробка была малышу хорошо знакома, так как он сразу же потянулся к ней, да и вообще, видимо, все разыгрывалось по заученному до черточки, до подмигивания этого майорского сценарию. Полковник открыл коробку и достал оттуда яркий леденец.
– Ну-ка, покажи, что ты умеешь. Покажи меня.
Малыш заученно расставил кривоватые ножки, выпятил живот, наклонил голову и начал стучать правым кулачком в раскрытую ладонь левой ручонки. Сделав все это, он набрал побольше воздуха и завопил:
– Явампоказю, – еще вдох, – бциць-васю-асьтуды…
– Молодец. – Полковник протянул леденец и уронил в выставленную грязную ладошку, а сзади майорское сияние стало еще ослепительней – казалось, щеки вот-вот лопнут и брызнет внутренняя, с трудом сдерживаемая радость.
– А теперь покажи коридорных. – В руке светился другой леденец.
– Непово-озено-мази, – протянул сразу же в ответ мальчонка и заработал вторую конфету.
– Товарищ полковник, – набрался смелости майор, что сиял слева, – он еще выучил тут…
– Он преступников выучил, – перебил сияющий справа, убедившись, что полковник слушает левого сияющего благосклонно.
– Покажи, покажи. – В руке дополнительная конфетка. Малыш опустился на корточки и застучал кулачком по полу:
– Вовки-вовки-пидев-асы…
Колонна уже двинулась, закачавшись, и Голуба сделал большой шаг, догоняя остальных под взглядом посуровевших майоров.
– Вот так и мы все здесь, – проговорил Матвеич поравнявшемуся Голубе, – выкручиваем свой себе леденец.
Свернули налево в более узкий коридор и еще раз налево. Дубачка шла впереди и у каждой решетки, перегораживающей коридор, сообщала: «девять-восемь, шестьдесят шесть», и дубак, карауливший решетку, пересчитывал на ходу; поэтому старались идти ровно, чтобы не останавливали лишний раз для пересчета – время прогулки уже началось. И еще один поворот, а там уже толстенная дверь, у которой все же дубак сбился, и всем пришлось вернуться назад. С третьего раза миновали и этот шлюз, за которым такой же узкий коридор с железными дверьми по обе стороны, но сверху не перекрытия, а частая решетка с деревянными мостками посредине, и сквозь решетку эту – небо, и все головы вверх сразу, в ослепительную синь; и сбились с шага, заспотыкались, не обращая внимания на сапоги, грукающие над головой, на морду со щелочками глаз, на недовольный, но и незлобный окрик: «Кому гледись? Внись гледи…»
Прогулочный дубак распахнул дверь свободного дворика, и все втянулись в узкий пенал высоченных стен – так похоже на камеру, только без шконок, и все же не камера, а дворик, именно так вот ласково – «дворик», потому что над головой – не ограниченное ничем небо, и отовсюду ветерок, освежающе ласкающий заморенные тела, пробивающийся через все эти заборы и колючки. Частую решетку сверху и не замечаешь, – только подошвы сапог, в которые как бы вставлена сразу голова в пропотевшей пилотке, выглядят непривычно дико, паря в чистом небе.
Голова у Вадима закружилась, и он не смог больше стоять, задрав ее вверх, а добравшись по стеночке до угла, присел там на корточки, расстегнув и спустив к поясу рубашку. Солнечные лучи, смягченные порывами ветра, не сжигали, а только ласкали кожу, и все скинули футболки и рубахи, вбирая синеватыми плечами и солнце, и ветер, и не нарезанный тесными камерами воздух.
Еще несколько человек, как и Вадим, прислонились к толстым, ноздревато заштукатуренным стенам дворика, а остальные друг за другом двинулись быстрой проходкой по узкому, вытянутому вдлинь дворика кругу. Они карусельно мелькали перед глазами, разминая отвыкшие от движения мышцы, взмахивая руками, приседая на ходу, и от их движения у Вадима снова все поплыло перед глазами.
Только Веселый и не сидел, и не ходил в круге, а метался по дворику, сталкиваясь со всеми, мешая, но не вызывая раздражения, а встречая только снисходительное понимание. Ему, ошалевшему после месяца карцера, истосковавшемуся по свету, движениям и бесконечному разнообразию возможностей, хотелось все их сразу же перепробовать. Он стучал в стены и кричал при ответном стуке: «Какая хата?» – но и глуховатого ответа не выслушивал, а переключался сразу на подбегающего охранника и орал ему вверх: «Курить давай, курить, волчара», – и снова орал, выкликая из других двориков какого-то Тракториста, а на угрозы дубака из-за двери, который все шуршал дверным глазком, высматривая непорядок, выкрикивал: «Че глядишь? Че глядишь? Дубачку лучше позови – я ей чего покажу». Один раз дверь все-таки распахнулась, и взмокший дубак заорал: «Прогулку сейчас прекращу», – но в ответ ему Веселый заулюлюкал: «Ты только рапорт вправе накатать да отсосать у меня, волчара», – и столько напора было в этом выхлестывающемся веселье, в звонком хохоте всего дворика, да в дружных криках из соседних разгороженных клеток, что молоденький дубак не решился вызвать выводную и прекратить прогулку, хотя вполне мог бы – этот, молоденький, впервые заступивший по прогулкам, еще не осознал, что он все может; еще не почувствовал свою чуть ли не абсолютную власть и не сдерживаемую ничем силу, впрочем, он еще не почувствовал главного – что вся эта грязная толпа уже и не люди вовсе, а стадо мразей, на которых переводится народное добро, переводится впустую, а надо бы их всех – в расход, да вот наши слишком гуманные законы не позволяют, и поэтому столько и разводится всякой нечисти.
Круг распадался, и все больше останавливались вдоль стен, стараясь не мешать остальным. К Вадиму подошел Голуба:
– Слышь, что скажу, Саламандра. – Он присел рядом на корточки. – «Косяки» порешь один за одним. Присматривайся…
– Ну какие косяки, какие косяки? – зачастил Вадим. – Они как зацепили меня сразу – так и жизни не дают…
– Ты умыться сегодня опять не успел…
– Да какое кому дело? Лишь бы ко мне цепляться – в свинарнике этом кому дело до моего умывания?!
– А если дизентерия? И всю хату на карантин – без прогулок, передач, ларька? И так ведь хата на голяках…
Подошел Матвеич.
– Учишь Саламандру из этого полымя целым выбираться?
Вадим вскинулся, но Матвеич глядел участливо, без насмешки.
– А ты