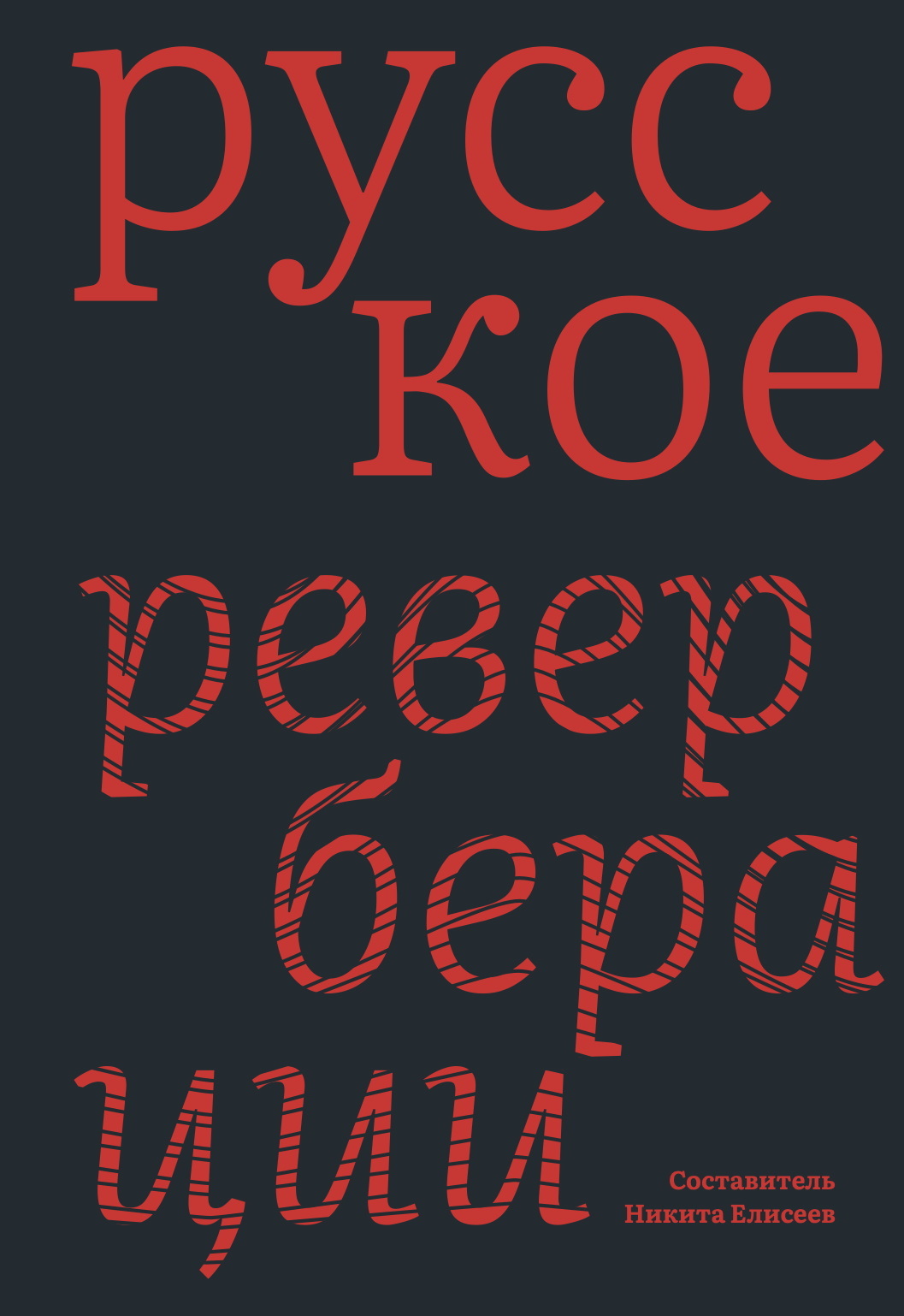думаешь в этом свинарнике всю жизнь провести? – Вадим боялся, что Матвеич отвернется, не дослушав. – Здесь нельзя жить – здесь только терпеть можно, терпеть и ждать…
– Терпи… Терпи, друг-голуба, – поднялся и Голуба, потягиваясь, – но постарайся человеком остаться.
– Ты попробуй иначе, если, конечно, принимаешь чужие советы… – Матвеич смотрел мимо, но говорил Вадиму. – Постарайся вытравить из себя все, что за этими стенами: жена, дети, нормальная жизнь… Все забудь, не допускай – от этого только жалость к себе да слабость. Прими это все как единственную свою жизнь, и когда окрепнешь в ней – тогда впусти помаленьку тех, кто тебя любит, и тех, кого сам любишь, – их только, да старайся жить так, будто они все время смотрят на тебя…
– Так все одно без толку, – попробовал поддеть Вадим.
– Без толку. Только это не важно.
– А что важно?
– Что ты на глазах.
– У кого?
– У меня, у Голубы, у Бога…
– У ментов…
– И у ментов…
– Ну и что?
– А значит, улыбайся. Улыбайся, Саламандра, на нас смотрят…
Нет, непонятно все это было Вадиму, чушь все это – нельзя здесь жить, вытерпеть только надо, а там уж он свое наверстает… Чушь! Только путает все политик этот. Тут вспомнилось, что давно хотел спросить Матвеича про его статью, любопытно ведь…
– Матвеич, а у тебя же частное предпринимательство… Я почему знаю? Мне тоже 153-ю клеили… Так почему тебя антисоветчиком зовут?..
– Так я книги размножал, и, как утверждает суд, антисоветские…
– И загонял?
– Суд решил, что загонял.
– Понятно. Слушай, а это выгодно – книги сбывать? Сколько заработать можно?
– Как повезет – можно пять, а можно и семь… Я вот – пять…
– Закончили прогулку, – грянуло за дверью, и в распахнутом уже проеме стояла дубачка-выводная. – Некогда мне с вами, – пресекла она вялый ропот. – Выметайтесь по-быстрому.
– Не прошло еще время, – попытался спорить Берет.
– Твое время давно прошло! Ишь, умник – указывать мне… У тебя часы, что ли, есть?..
Спорить было бесполезно, и возражали, и роптали без азарта, а только чтобы затянуть время. Так и пошли медленно в проход, через дверь, одеваясь на ходу, выстраиваясь неспешно в колонну и долго выравниваясь. Вадим оказался чуть ли не впереди с Кадрой, перед ним неспешно оправлял футболку Голуба, а еще через одного Берет что-то шептал стоящему рядом Матвеичу.
Двинулись, натыкаясь друг на друга, еле волоча ноги. Из тюремного коридора дохнуло душным жаром, и, хоть и приготовились внутренне к этому – не в первый же раз, – все равно переход из свежего воздуха в тюремную затхлость был неожиданным, и представить невозможно было, что эта вот затхлость недавно совсем, из камеры, казалась недосягаемой мечтой. Окриков дубачки не слушались и еле двигались, постоянно путая счет и не огрызаясь даже, внимания не обращая на выходящих из себя дубаков. Поворот, еще поворот, и свой продол вывернул под ноги и в глаза липкими стенами, скользким от проливающейся баланды полом, кислым свинарным запахом.
Последний пересчет, и выводная, сдав коридорному в сохранности все стадо, понесла прочь мощное свое тело, подрагивая под тугой форменной юбкой крепкими ягодицами; подрагивая не для них, задохликов, их она и за мужиков не считала, а для игриво чмокающих дубаков, слюняво облизывающихся вслед.
Коридорный развинчивал дверные запоры и наконец распахнул дверь, но сразу отскочил. В коридор выплеснулась грязная вода из камеры, а там по сплошь залитому полу болтались какие-то тряпки, колыхалась бумага, поплавками выныривали испражнения, и все это, накаленное в духовке камеры, било даже не в нос, а в глаза, вонью выдавливая из них слезы.
– Закрывай, гадина, не пойдем! – крикнул Берет, пробившийся к самой двери. – Начальника зови!
Дубак глянул еще раз в камеру, перегнувшись, чтобы не наступить блестящим ботинком на нечистоты: там из унитаза, бурля и клокоча, все прибывала вода: три этажа сверху, три камеры над «девять-восемь» проливали свои толканы неожиданно подошедшей водой в надежде избавиться от застоявшейся вони.
Дубак захлопнул дверь, с опаской поглядывая на сгрудившихся вокруг него преступников: он был растерян, понимая, что не войдут они сейчас в камеру, и не зная, что дальше делать, так как они обязаны были войти, а он обязан был их туда вогнать и запереть. Как назло, продол был пуст, и не видно было старшего, покинувшего свой пост у поперечной решетки коридора.
– А ну к стене все, – рявкнул дубак, размахивая киянкой и ожидая, когда появится кто-либо, – он не мог отлучиться, оставив в коридоре без присмотра преступников.
– Давай, мужики, к стене, – бросил Голуба, – и тихо. В хату не входить, даже если по одному будут загонять, по списку, – сдохнем там. И без базара…
Все растянулись у стены, и Матвеич предложил:
– Давай, мужики, сами хозяина звать – может, он еще у себя.
– А ну, молчать! – рявкнул дубак, затравленно оглядываясь посреди коридора.
– Это ж ДПНСИ распорядился воду дать, – тихонько объяснял Голуба Берету, – а педерасты эти, не разобравшись, что он говорил про кипяченую, и забыв про сантехников…
– Матвеич прав – хозяина зовем, – решил Пеца. – Давай, мужики.
– Ну, начали… – выдохнул Матвеич, – хо-зя-и-на…
Поддержали Берет с Голубой, потом еще несколько голосов, и через пару секунд мощный слитный голос скандировал: «хо-зя-и-на-хо-зя-и-на».
«Молчать! Сесть всем! Сесть! На пол, мрази! На пол! – в несколько глоток заорали разом набежавшие со всех сторон дубаки. – Замолчать! Садиться!» – Они метались вдоль выстроившихся у стены арестантов, размахивая дубинками и киянками, расстегивая притороченные к поясу чехольчики с «черемухой», но не решались ни их достать, ни нажать кнопку тревоги рядом, над столиком старшего коридорного у решетки, перегородившей продол. Сам старший орал что-то в телефон, а дубаки все метались, пытаясь своими криками заглушить дружное «хо-зя-и-на», но где было им перекричать столько глоток, и слитный голос настойчивым кулаком стучал в стены тюрьмы. Появились семенящие офицеры, подкумки, но их перепуганных голосов и вовсе слышно не было, и по тому, как все они избледнели, метаясь вдоль серой шеренги («ну точно крысы», – шепнул Берет на ухо Вадиму: не потому, что – Вадиму, а надо было сказать, из себя вытолкнуть это наблюдение, и Вадим, уцепив глазом пробегавшего лейтенанта с капельками пота над губой, сам увидел – крысы), по нерешительности и перехваченным страхом голосам – даром что громкие – понятно было, что правильно зовут: хозяин здесь еще, его только и боятся холуи, только страх перед ним мешает расправиться немедля с протестующей камерой.
И открылась – невероятно, но открылась угловая дверь, выпустив маленького полковника. Тут же окружила его свита из нашедших свое место тюремщиков, и в мертвячей тишине хозяин приблизился к «девять-восемь», до фуражки