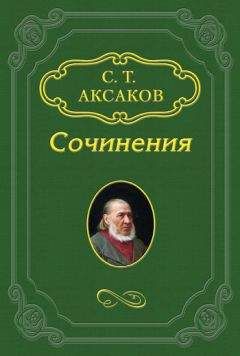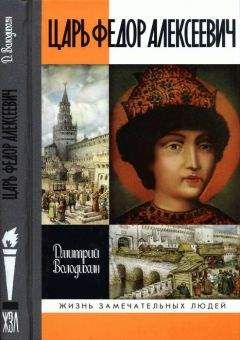Сзади зашуршал тальник.
- Что там? - не оборачиваясь, спросил Савва.
- Старик вернулся... зовет...
- Чего ему?
- Пшена принес... Рыбы сушеной... Сухарей... Топор...
- Видишь, вода какая?
- Ну?
- Вот иди и гляди, сухарями похрустывай.
- Может, попробуем... А? Вдруг пофартит?
Только теперь Савва искоса взглянул на Сашку и в острых волевых глазах-пуговках татарина, так не шедших к синему, в куриных пупырышках, совсем детскому личику, прочел свою собственную решимость.
- Лады...
К костру они подошли, когда Кирилл уже заканчивал увязку двух заплечных мешков. Протягивая Савве кожаный кисет, он сказал:
- На шею одень заместо креста. Тут четыре блесны, оселок и проволока... Сгодится. Ветер?
- Ветер...
- Вот зарядило!
- Мы, Кирилл, все-таки попытаем счастья нынче.
- Судьбу пытаешь, а не счастье.
- Так ведь и здесь сидеть - судьбу испытывать.
- Здесь надежнее.
- А вдруг?
- Как знаешь, паря, я тебе в этом не потатчик. Не возьму греха на душу.
Между ними легла карта, выдранная Саввой из учебника географии в лагерной библиотеке.
- Как ты думаешь, выскочу я по Куранке к Камню?.. Там-то уж мне места известные. Заведу и выведу...
Кирилл долго водил заскорузлым пальцем по карте, тщетно пытаясь выпутаться из хитросплетений ее рек и речушек, потом сокрушенно признался:
- Я ведь тут третий год только... Я сверху пришел, оттуда, почти из-за самого Нижневирска...
- Почто?
Кирилл замялся:
- Так... от искуса...
- Ушел?
- Нет... Но легче - стало.
Закат лишь в намеке, солнцу еще катиться да катиться к горизонту, а под кровлей кельи уже ощущалось нарастание тревоги. С самого полудня не вставал Кирилл из-под образов, тоскливо вымаливая у них так неожиданно утерянный покой и душевное равновесие. Но молчали праведники, не ответствовали. На какое-то время старик затихал в обманчивом просветлении, но стоило первому зоревому блику коснуться оконной крестовины, как сила, перед которой отступала, терялась вера, отрывала его от пола, уводя за порог.
А лес, завороженный нечистым лес, сводил все свои никем не считанные тропы в одну - ту, что вела к полувенцу из трех сросшихся берез, с обомшелым пеньком посередине. Кирилл садился и как бы врастал в него, становясь частью этого странного каприза природы. И вместе с сумерками старика обволакивали голоса.
Первый:
- Опять бил?
Второй:
- Бил, Федя.
- Вот гад... Я ему душу выпотрошу, мерзавцу! Да что же это такое в самом деле?! Иди в сельсовет, в колхоз, жалуйся, требуй! Обязаны разобраться. Ну нет, я этого так не оставлю!
- Бога ради, Федюша! Меня пожалей. Тебе уезжать, а мне жить с ним.
- Оля, Олька, Олечка, да оторвись ты от темноты своей! Тебя же в школе нашей учили. В пионерах, видно, ходила. Песни комсомольские пела. Как же это можно, Оля! В депо к нам пойдешь. Дело будет, жизнь будет. Сама после над собой смеяться станешь!
- Грех один, а кара-то на двоих, Федя. Не будет нам с тобой счастья.
- Ни до Бога мне, ни до черта дела нет. Завтра. Встряхнись ты, наконец, Оля. Завтра, ты слышишь? Оля же?
- Господи, и за какие только мне грехи кара?
- Думай, Ольга, думай. Жизнь свою губишь, а она ведь снова не начинается. В чем есть, в том и уходи. Все наживем. Чужого нам не требуется.
- Счастья, Федя, не будет...
- Будет, Оля, и какое еще!
- Страшно, Федя.
- Очнись, Ольгунька. Приснилось тебе все это. Приснилось, слышишь? Ну как мне душу твою прокричать?
- Ты лучше не забывай...
- Уедем, Оля.
- Помни...
- Завтра, Оля.
- До тебя я ни с кем...
- Ждать буду, приходи.
- И опосля тоже не будет...
- Со мной будет. Всегда будет. Везде будет.
Другой мир и другая жизнь стучались в Кириллово сердце, и оно вторило этому стуку часто и глухо. Людские беды и радости оборачивались для него бедами и радостями этих двух, казалось бы совсем чужих ему существ, согревших лесную ночь своим дыханием. И сомнение вновь и вновь пытало его: "А есть ли грех в этом? Греха-то, может быть, и нету? А тогда..." За этим "тогда" начиналась бездна...
В полночь Кирилл возвратился к себе. Едва он переступил порог, аспидная темь со звездным квадратом где-то в самой глубине обступила его: он не стал зажигать лампады. Он ждал благостыни, но она не снисходила. Одинаковой чернотой наливались все четыре скитских угла. Тогда старик заговорил первым. Слова, какими добрую треть жизни общался он с Господом, вдруг потеряли привычную легкость, утратили глубину и объем и даже стали мешать. Кирилл впервые ощутил себя равным тому, кого именуют Всевышним. Он сошелся с ним, как живой человек с живым, на одной узкой, очень узкой дорожке: кто-то из них должен был уступить. Поэтому и слова, из которых складывал Кирилл свою речь, утяжелились, сделались приземленней, а потому и проще.
- Господи, скажи, зачем мучаются люди? За грехи? Так ведь грех от Тебя же, ибо все в руках Твоих. И зачем одни страдают от других? Почто били и терзали меня мне же подобные в чужой стороне? Я не веровал? Но Степан Чумаков веровал? Почто же тогда довелось ему в моче быть утопленному? А Маркел Кириллов? На цепочке же от креста и удавился. Как же так, Господи? Венчанный зверь в облике человеческом заставляет жить с ним рабу Твою. Рази сие не прелюбодеяние? А зачем освящаешь? За грехи? За какие? Ты погляди в овечьи глазоньки ее. Нет в них греха. Это я Тебе говорю, праведник Твой. Научи, коли кощунствую, наставь. - Он умолкает на мгновение и затем почти кричит: - Рази любовь грех? Рази кара за это свята? Зачем все на слезах и крови стоит? Рази можно столько крови, а? Ведь людская она, кровь-то, не зверская! Твоя-я! Внемли!
Молчали, безмолвствовали темные скитские углы.
- Внемли-и-и-и!..
- Так ты думаешь, не меньше тыщи?
- Никак не мене.
- Бросаю по тридцать верст в сутки.
- Ты пройдешь, а он, - Кирилл кивнул в сторону Сашки, - пройдет?
Савве припомнились Сашкины глаза, подернутые искрой сумасшедшей решимости, не иссякшей в нем и после трех побегов, и он уверенно сказал:
- Пройдет.
Старик только вздохнул недоверчиво:
- Смотри, на твою душу грех, тебе и замаливать.
Кирилл знал, что она придет. И она пришла. Униженно глядя на него своими огромными глазами, женщина без утайки рассказала ему все то, о чем ему было известно до самых малых подробностей. И взгляд ее при этом вымаливал лишь одного - прощения. Но у Кирилла не осталось для нее больше умиротворяющих речений.
- Не мне, - просто молвил он, - да и не Господу Богу судить тебя. Нет у тебя грехов. Иди. Доброй дороги!
Женщина скосила взгляд в сторону, как бы раздумывая над услышанным, потом робко и благодарно улыбнулась, и улыбка эта озарила ее худое, в расползающихся пятнах лицо удивительно добрым светом. Она пошла, то и дело оглядываясь, пошла в сторону от тропы, что вела на опушку, пошла к реке.
С высокого обрыва Кирилл видел, как женщина, сильно наклонившись вперед, опустилась по крутой стежке под берег.
А там, где путь ее сомкнулся с отлогой песчаной косой, к ней подошел мужчина в серой паре, заправленной в хромовые сапоги, с железным, как у железнодорожников, сундучком в руке. Женщина сбавила шаг, приноравливаясь к его поступи, а через минуту они уже шагали в ногу вдоль студеной Вязи в сторону переправы. И Кириллу было понятно, что шагать им вот так - рука об руку - еще далеко-далеко. И в мгновение, когда они скрылись за поворотом, сердца Кириллова коснулась давняя, зовущая, гиблая боль: "Дяденька-а-а... Дяденька-а-а!"
В тот же день Кирилл бросил скит и ушел вниз, прочь от Того, Кто обошел его надеждой, в поисках другого, своего Бога.
К вечеру ветер немного стих. И они решились. Кирилл вывел лодку с верховьев поперечного ручья к самому устью. Уложили мешки. Молча присели на дорогу, молча погрузились, и так же молча старик вытолкнул их на большую воду. И только когда лодка сшиблась с первой волной, Кирилл не выдержал, крикнул:
- Носом на волну иди... Кормовым, кормовым загребай!
Лодка прошла едва ли и сто метров, а берег уже казался далеким-далеким и небо - в овчинку. Савва боялся оглянуться: там, за спиной, было еще пятнадцать раз по столько, если не больше. Перед ним маячила темная Кириллова фигурка, случайной корягой вросшая в берег, и его вдруг охватило острое ощущение вины перед стариком, а какой - он и сам не смог бы объяснить толком. И от этого на душе его стало тяжелее. И чтобы хоть как-то избавиться от неожиданного наваждения, Савва, полной грудью вдохнув в себя речного ветра, крикнул что есть мочи:
- Должник я твой, Кири-и-ил!
- Чего-о-о? - донеслось с берега.
- Должник, го-во-рю-ю, я тво-о-о-й!
В ответ тот лишь рукой махнул: чего уж там, мол!
VI
Поперечная плаха плотно вошла в паз продольной. Савва с силой стянул трепаным лыком угол между ними, одним швырком вытолкнул обрешеченную раму в воду и не мешкая стал забрасывать ее тальниковыми ветками. Вскоре на недвижно глянцевитой поверхности прибрежного озерца обозначился довольно сносный плот.