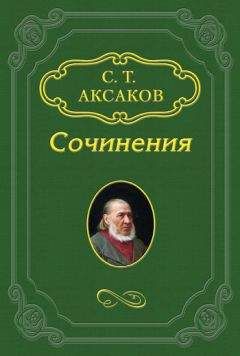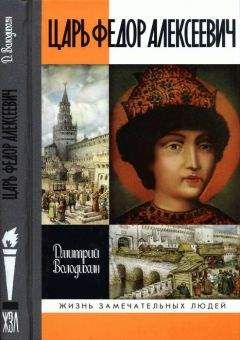Савва долго глядел ему вслед, и ему думалось, что в том месте, где набухшее, низкое небо смыкается с горизонтом, конец земли и что человек исчез там.
XIII
Пробираясь полосой вдоль железной дороги, Савва вывел друзей к стыку двух веток: Белявск - Ставрополь.
- Вот, - сказал он, - здесь.
Петька ладонью стер дождевую капель с лица, опустился на сваленную лесину и сразу же занялся куревом, но отсыревшие спички не зажигались, и он, высыпав весь коробок в ладонь, брал их по одной, остервенело разгрызал и сплевывал себе под ноги. Дуся, присев на корточки, вяло и сосредоточенно оглаживала мокрый ситчик, облепивший ее острые коленки. Каждый понимал, что предстоит неизбежное, но никто не хотел заговорить первым: слишком уж многое их теперь связывало. От одной мысли, что он уже никогда, совсем никогда не увидит Петьку, его дурацких рябин, не услышит его глухого, с ударением на "о" голоса, Савву брала какая-то пронзительная, не испытанная еще им никогда жуть.
- Расходиться, значит, будем, - решился наконец Петька. Половина спички прилипла у него к щетине под губой. Петька долго с излишней старательностью пытался сдуть ее, но так и не сдул, а зло сбил щелчком. - Черт!.. Я - в степи.
- Опять на заработки? - слова у Саввы напросились самые зряшные, первые попавшиеся, чужие и не к месту сказанные, и он почувствовал это, и у него стало нехорошо на душе. Но надо же - черт побери! - сказать что-нибудь, чтобы оттянуть последнюю минуту, когда уже ничего не вернешь. - Что там в степях-то. Ветра там. И все. Дома у моря хорошо обживать.
Но Петька не обиделся. Он только как-то усмешливо и горько хмыкнул и посмотрел в сторону - туда, где за редколесьем маячил в туманной измороси ребристый плавник перекидного моста.
- Дом! А к чему он мне, дом-то? Дом-то - он мне теперь, братишка, ни к чему! У тебя есть дом? У нее есть дом?.. А у всех наших там, а? Зато у мастера теперь есть хатка о четырех углах заместо пятистенника... Не-ет, мне теперь ни под одной крышей покоя не будет... Другое дело - степь: иди и иди себе. Попробуй кто, сунься. Я сам себе в степи и нарсудья и приводящий в исполнение... А хороший человек - так что ж, вдвоем-то оно веселее, да еще с хорошим. В общем, травить без пользы... Двинули.
Петька поднялся и, отойдя шагов на десять, кивком через плечо позвал Савву за собой. Вместе они прошли еще немного. Затем Петька остановился и, повернувшись к нему, стал копаться за пазухой.
- Понимаешь, - он говорил тихо и просительно, - я здесь поделил четыре штуки на троих. Две святые - Зямины. И нам, значит, по шесть с половиной бумаг на рыло. Только Зямины я тебе отдам. Не надеюсь я на себя. Боюсь, жадность одолеет. Там его адрес, на первой сотенной, - Петька совал Савве в руки аккуратно обернутые в газету доли. - Зямины отсылать будешь - пропиши: пусть, мол, воду едет пить. Вода, она знаешь как от камней помогает.
Состязаться в благородстве здесь не было смысла и времени. Савва, беря деньги, только сказал:
- Все - Зямины.
- Со своими - как хочешь, а ей, - Петька глазами показал в сторону Дуси, ей отдай долю. Она - девка. Ей - трудней... И вообще, - он глубоко и добро посмотрел Савве в глаза, - не бросай ее. - Он сказал и повторил снова: - Не бросай, а?
Едва ли до этой минуты Савва думал об этом. Прошлое в счет не шло. Его уж не было, прошлого. Сейчас приходилось все начинать сначала. А как начинать, с чего - Савва еще не знал, не имел понятия.
Все стало вдруг в мире сложнее и ответственнее, и надо было искать в нем чего-то самого большого, самого главного. Но он не дал себе времени для сомнений.
- Она пойдет со мной.
- Смотри, а то я возьму. За сестру возьму. Хорошему человеку с рук на руки передам. И тебе без хлопот. И девка не сгинет.
- Нет, Петро, она пойдет со мной.
- Не обижай. Ее обидеть, сам знаешь, дело плевое.
- Со мной пойдет, Петро.
Тот еще раз пристально и коротко взглянул на него, круто повернулся и, не прощаясь, пошел прочь. Его широкая спина, стянутая набухшей от воды и оттого темной нанкой, еще долго виделась в просветах меж деревьев, пока Петьку не растворило в вязкой сырости дождливого утра.
Дуся по-прежнему сидела на корточках и все так же вяло и безучастно оглаживала платье на коленках. Савва тронул ее за плечо:
- Надо идти.
Она покорно встала, и они двинулись дальше. Осклизлая тропа уходила из-под ног. Дуся, то и дело оступаясь, хваталась за его рукав, и это ее доверчивое прикосновение вызывало в нем чувство щемящей, уже почти отцовской жалости к ней. Жалости и еще чего-то такого, чему он еще не мог найти точного определения.
К полудню они вышли на большак перед железнодорожной насыпью. В мокром асфальте плыли, подсвеченные с востока солнцем, тяжелые облака, и Савве виделось, будто они идут по опрокинутому им под ноги небу.
Дорога вела их на запад - в дождь, и дождь наваливался на них исподволь, все нарастая и утяжеляясь.
Дуся куталась во вздувшуюся телогрейку, искоса поглядывая на Савву. Было в этих ее коротких полувзглядах что-то жалкое и затравленное. Перехватив один из них, Савва кивнул в сторону придорожной копны:
- Может, переждем? Не близко еще до хуторов-то?
Вместо ответа она сказала:
- Нас все равно возьмут.
- Возьмут, но не здесь. Пошли.
- Как хочешь.
Она пошла за ним. Сидя с нею бок о бок в пахнущем ромашкой и чабрецом углублении, Савва впервые после того, что было между ними на заводе, почувствовал ее лицо так близко от своего. Сухая былинка, зацепившись за взмокшую прядь, приникла к трепетной синей жилке на ее виске и сейчас, будто живая, дышала вместе с нею часто и судорожно. И вдруг в нем как бы взорвалось что-то и, жаркой волной подкатив к сердцу, озарило его первым в жизни откровением: так ведь то - самое главное, которого ему так недоставало и которого он так долго и с такой надеждой ждал и искал, здесь, рядом с ним, и оно - это главное - теперь для него дороже и нужнее всего на свете. А все, что в прошлом, - это дым, приснилось. Он один для нее, и одна она для него. У них есть руки, чтобы работать. У них есть ноги, чтобы ходить по земле. У них есть сердце, чтобы любить. И они будут работать! Работы для них на земле хватит. И они будут ходить: земля, говорил Степан, круглая - попробуй сгони их. И они будут любить: у них в запасе если не сто лет, то вечность. И плевать на всех, кто хотел бы им помешать в этом. Плевать. И пусть все они идут к черту! К черту! И он привлек Дусю к себе, привлек бережно, как что-то очень хрупкое, очень бьющееся. В молящих глазах ее он увидел сначала испуг, потом удивление, потом благодарность и, наконец, себя и облака над собой.
Чем выше брал Савва по склону, тем явственнее редел лес. Преодолев подъем, он очутился лицом к лицу с целью своего пути. Внизу, под ним, распласталась огромная, лишь кое-где перечеркнутая подлесками тундровая равнина, а в самом ее конце, зажав между своими отрогами восходящее солнце, голубело Каменное взгорье. И все пережитое вдруг оставило его. Он как бы пришел в себя после тяжелой и долгой болезни. Савву пронизало чувство необыкновенной легкости и просветления. И отсюда, с высоты гребня безымянной таежной пади, Савве почему-то воочию представилась его земля: не всегда добрая, не всегда щедрая, не всегда справедливая, но близкая, родимая, поделившаяся с ним своей плотью и кровью, своим теплом и словом. И ему еще предстояло ее обжить, и ему согревать, и ему в ней в положенный час упокоиться. И хотя там, за голубыми в свете зачатого дня горами, лежало море, за которым, может статься, цвели куда более гостеприимные просторы, для него, Саввы Гуляева, - желанней и дороже земли не было. Нет, не было.