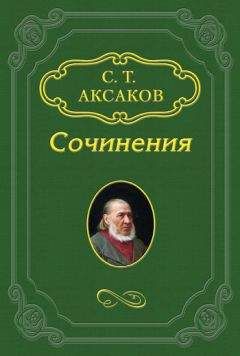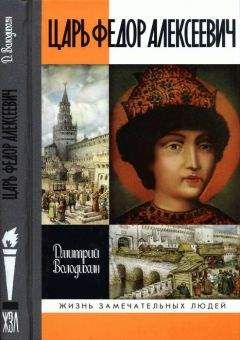Глубоко запавшие глаза бородача с исступленной сумасшедшинкой в самой глуби всматривались в Савву, требуя ответа, отклика, но мир для парня уже потерял свое реальное равновесие, а сознание едва схватывало происходящее. Савва попробовал дотянуться до ближнего топчана, но стена развернулась ему навстречу, и он подался к ней, как к спасению. Последнее, что успело осесть в его памяти, было гулкое Степаново:
"Церквы мертвые!"
Зяма проигрывал. Ему не везло прямо-таки с катастрофической последовательностью. Он спустил все, что у него было, и теперь даже собственной исподней рубахой пользовался напрокат - в счет будущих расчетов. Сегодня Зяма целиком и полностью, вместе со всем своим движимым и недвижимым, принадлежал Петьке. Наверное, поэтому госстраховский плакат "Выгодно, надежно и удобно..." за его спиной выглядел сейчас особенно нелепо. То и дело вытирая рукавом испарину со лба, Петька тасовал карты и с профессиональной ловкостью раскидывал их на три кучки: Зяме, Валету, себе; Зяме, Валету, себе. Валет вел игру мелко и осторожно, скорее престижу ради, чем из корысти. Савва не играл. Он всегда считал искушение судьбы занятием зряшним, даже предосудительным. К тому же ему доподлинно было известно, что все здесь будет разворачиваться как по нотной прописи: в самый подходящий для себя момент Петька по праву кредитора закроет банк, Валет, как всегда, остается при своих, а Зяма пойдет искать место выплакаться. Это у него вроде обязательного правила. Потом он сядет писать письмо маме с клятвенными заверениями разбогатеть в ближайшее время и трогательной заботой о ее камнях. В конце концов общежитейское равновесие восстановится и жизнь братвы войдет в свою колею...
Сумерки вплывали в комнату, отстаиваясь в углах и под топчанами. Сквозь полудрему Савва вслушивался в ленивую перебранку Степана с Петькой.
- Эх, Петр, Петр, ну зачем, скажи на милость, тебе чужие деньги? Как пришли, так и уйдут, от чужого добра - добра не станет. Простил бы ты ему, смотри, как на душе полегчает.
- А это, паря, не твоя забота. Ишь праведник нашелся! Полегчает! А может, у меня блажь - в нужник с сотенной ходить, а может, я чемодан кредитными билетами обклеить хочу, может, мне махру в них свертывать сподручнее: дым сладкий больно получается. Вот так. И не лезь в душу. А добрый - свои отдай; сто грехов спишется.
- Волки и те добрее.
- С волка прописки не спрашивают.
- Тяжко ты, Петр, помирать будешь.
- А это, я так думаю, для всех одинаково.
- Ой, нет, Петр, ой, нет.
- Ладно, иди - беги, праведник. Надоело.
Разговор погас так же неожиданно, как и вспыхнул. Тишина наполнила комнату. Отененная густой синевой августовского вечера, в форточное стекло вклеилась студеная звезда. Звезда чуть заметно мерцала и, казалось, всматривалась во что-то ей одной ведомое. Коротко скрипнула дверь: Зяма возвращался на исходные. Устраиваясь на топчане, он еще долго ворочался и вздыхал, потом затих, но по его глубоким придыханиям чувствовалось, что парню сейчас не до сна: проигрыши давались ему тяжело.
Первым подал голос Валет:
- Не в деньгах счастье, Зяма... Позвони малость - забудется...
- Фарт есть фарт, - грустно откликнулся тот из своего угла, - но хотя бы раз, хотя бы по теории вероятности. И так всю жизнь... И во всем...
Петька не удержался, чтобы не позлорадствовать:
- Зато в любви полный ажур.
- Заткнись, - оборвал его Валет и снова попросил: - Будь другом, Зяма, позвони на сон грядущий...
- Не знаю, Валет, получится ли... Не контачит что-то...
Но тот уже объявил:
- Любимец публики Зяма Рабинович-Рябушинский. "Тайны парижских трущоб"! Часть седьмая!
Зяма начал несколько вяловато, - чувствительность натуры сказывалась, - но постепенно его земные беды отступили перед величием парижской панорамы, его голос креп, наливался дикторским металлом, обволакивая слушателей вязью удивительных своей новизной, легких, дразнящих слов:
- "Когда часы на башне Нотр-Дам пробили полночь, из ворот таверны "Мечта гурмана" выехал зашторенный кабриолет. Желтые блики газовых фонарей проникали внутрь экипажа, освещая лицо Человека в Маске..."
Все, чем братва жила до сих пор, становилось мелким, пустячным, обыденная явь отступала за пределы реальности. Хоровод причудливых образов и видений начинал властвовать в четырех стенах, затерянных в тысячеверстовой степи.
Слушая Зяму, Савва никак не мог отделаться от ощущения почти болезненной жалости к себе и ко всем, кто был сейчас рядом с ним. Казалось, что какая-то огромная темная сила сумела заслонить от них настоящий, большой мир, в котором жили совсем другие люди, иной, не похожей на здешнюю жизнью, и оттуда, из того мира - доносились сюда только красивые призрачные сказки...
Зяма тем временем продолжал:
- "...Защищайтесь!" - грозно воскликнул Человек в Маске графу де ля Труа Полиньяку. Кровь стыла в жилах от этого голоса... Но было поздно - она была мертва... А в это время по дороге из Шампани во весь опор к Парижу неслись всадники. Сапфиры и золотые талеры, алмазы и жемчужные колье переливались перед его глазами всеми цветами радуги..."
Еле слышно отворилась дверь, и трепетная тень перечеркнула лунный квадрат на полу. Потом тень надломилась, вздохнув Дусиным голосом:
- Посумерничаю с вами.
Ей никто не ответил. Диковинные созвучия, завораживая, плавали в темноте, и, хотя все знали, что и эта Зямина байка, как и все предыдущие, окончится благополучно и что пороки будут наказаны, а добродетель восторжествует, каждый старался не пропустить ни единого слова: каждый хотел своей доли забытья.
- "Герцогиня была в обмороке. Человек в Маске наклонился над нею и сказал: "Ваше высочество, вы свободны!" Придя в себя, она подняла на него свои небесно-голубые глаза и умоляюще спросила: "Скажите мне ваше имя, о благородный юноша!" Но Человека в Маске уже скрыла темная ночь..."
Когда Зяма кончил, воцарилась тишина, прерванная только коротким Петькиным:
- Живут люди!..
Каждый думал о своем. Каждый переживал очередную Зимину байку по-своему. И поэтому, наверное, братва по молчаливому сговору старалась не растрачивать все переполнявшее ее в случайном разговоре и пустом слове.
Пожалуй, впервые после короткого и уже почти забытого детства Савва засыпал легко и бездумно, как после дня рождения. И снилась ему звезда, вклеенная в блистающее вечерней синевой окно.
Три печи были выбраны на треть и одна - Зямина - на четверть. Обходиться без подачи становилось трудно. Казалось бы, все очень просто: делись по двое, и клади больше, кати дальше. Но тут-то и произошла загвоздка: Зяма как напарник никого не устраивал. При новой расстановке, хочешь не хочешь, а выработка поровну. Но "дружба дружбой, а табачок себе дороже". Все эти дни романист еле-еле дотягивал до тысячи. Физический труд был ему явно противопоказан. И потому стать с ним в пару никто не торопился.
В перерыв, сидя за обеденным столом, братва старалась глядеть куда угодно, только не друг на друга. Зяма, оседлав краешек табуретки у окна, изучал всех поочередно печальными, недоумевающими глазами. Валет, старательно раскатывая ладонью хлебный шарик, определил свою позицию весьма недвусмысленно:
- Я, конечно, сочувствую твоей маме, Зяма, но два рыцаря для ее камней многовато. И потом - у меня у самого долги.
Петька лишь покосил глазом в его сторону, видимо прикидывая, во что ему может обойтись нейтралитет, а прикинув, принялся молча обкусывать желтый ноготь большого пальца. Ему кооперация с Зямой могла принести одни убытки. Степану все равно не оставалось пары, а потому для него разговор значения не имел. Смахнув в ладонь крошки со стола и опрокинув их в рот, он истово перекрестился и вышел. Савве стало ясно, что так им не договориться и до второго пришествия. За лишний даровой рубль эти мальчики готовы были драться, как говорят, без страха и упрека до последнего издыхания. И хотя Зямино партнерство не вызывало особого восторга и у него, он решил закруглить торговлю:
- Пусть он встанет со мной. Обойдемся.
Зяма с благодарной затравленностью посмотрел в его сторону, но Валет неожиданно веером распустил перед собой колоду карт.
- Нет, сказал он, - здесь не богадельня. Карты скажут правду. Факт - дело верное. Тянем туза.
Во всеобщем молчании чувствовалась едва скрываемая одобрительность. Даже Зяма всем телом подался к столу. Потухшие было глаза его подернулись азартной поволокой. То, что разменной монетой служил он сам, не имело в эту минуту никакого значения для него: в нем заговорил игрок. Выбор жанра решили жребием. Сошлись на "коротенькой". Сдавать первому выпало Савве. Все шло как в отборочном олимпийском. Ему - везло. С одного захода он высадил Петьку, со второго - Валета. Партия между ними и решила Зямину судьбу. Сдавал Петька. Он, сопя, долго и старательно перемешивал колоду, карты открывал с трепетной сторожкостью, словно ждал от каждой из них смертельного подвоха и, когда "бито" легло на Валетовой стороне, не вьщержал-таки, злорадно осклабился: