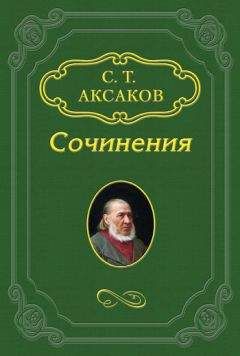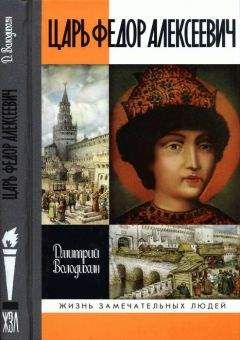Дуся лежала вполоборота к нему, комкая в кулаке послушный пламень косынки, и каждое слово его будто добавляло густоты темным ее зрачкам. На чистом, совсем девичьем лице ее резкими штрихами в уголках губ и глаз неожиданно прочеканился характер. Даже голос у нее стал другим - строгим, но в то же время как-то особо доверительным:
- Коли б все не для себя только, а и другим чуть-чуть. Ходят все, как волки, по свету, друг от друга душу прячут, будто боятся ни с чем остаться. Оттого и жить тошно. - Она перебирала его волосы, и Савва чувствовал, как теплая волна доверия и благодарности подкатывает к его горлу острым соленым комочком. - Уйти бы тебе отсюда... Сломаешься...
- Куда - уйти? Земля круглая...
- Не знаю... Только не здесь...
- На мне - где сядешь, там и слезешь. Я не Зяма, на мне не такие волки зубы обламывали.
- Не знаешь ты мастера. У него все начальство в кармане.
- Плевать. На горло берет. Ему еще глаз на анализ никто не вынимал. А я, если дело дойдет, выну.
Движение ее пальцев стало медленнее, трепетней:
- Не сносить тебе головы...
- С детства долдонят, а ношу - не жалуюсь.
- Эх ты...
- Что - я...
- Задира.
- Какой есть.
- Хороший...
Он увидел Дусино лицо близко-близко от своего, и вдруг его словно обожгло изнутри, и все исчезло вокруг, перестало существовать, и были только ее платье, ее губы, ее глаза, и все, что оставалось позади, уж не имело ни значения, ни смысла. Она отдалась ему со спокойной беззащитностью, но в глазах ее не было ничего, кроме усталости и тоски - глубокой и скорбной. Вставая, Дуся коротко вздохнула:
- А дальше что? Эх ты!
А он лишь подумал: "Как просто". И еще: "Вот тебе, Зяма-звонарь, и любовь вся до копеечки".
X
Савва прислушивался к горячечному шепоту товарища и мучительно соображал: что же ему делать дальше, как поступить? Положение его осложнялось до крайности. Уже четвертые сутки они не трогались с места. Он хотел дать Сашке отлежаться. Но тому становилось все хуже. Кровавый кашель вытряхивал из тщедушной Сашкиной плоти последнюю волю к сопротивлению. Савва отчетливо сознавал, что задерживаться здесь и долее равносильно гибели, но бросить напарника, уйти в одиночку он не мог, не находил в себе решимости. После всего пережитого и переговоренного ими в нем завязалась и день ото дня росла какая-то необъяснимая тяга, если не сказать - родственность, к Сашке. И поэтому сейчас, при всей безнадежности ситуации, Савва чувствовал, что, сколько бы ему ни довелось ждать, он не бросит татарина, не уйдет в одиночку.
Мысли цеплялись одна за другую, образуя нерасторжимый, с редкими вопросительными перебивками круговорот, и он незаметно для себя уснул, скорее даже не уснул, но забылся, а когда пришел в себя, Сашки рядом с ним не было.
- Сашка!.. Сашок! - негромко позвал он, ощущая в душе нарастание тягостной тревоги. - Сашок!
Гнетущее молчание обкладывало его со всех сторон. Он углубился в чащу, и только стук собственного сердца сопровождал его в этом лихорадочном поиске. Невидяще всматриваясь в буро-зеленое сплетение зарослей, Савва шел наугад, пока сквозь ребристое нагромождение лиственничных ветвей не увидел прямо перед собой - на уровне глаз - ногу, обутую в яловый ботинок с подошвой, прикрученной медной проволокой. Нога едва заметно покачивалась на весу: урок Лариона Грача в крайнюю минуту сгодился Сашке.
Легкая добротными рессорами бедарка мастера чуть слышно влетела на заводскую площадку и, круто развернувшись, без нажима осадила около печей.
- Ну как, москали, идет работа? - Мастер, заметно навеселе, стоял, качаясь, в бедарке, и заплывшие глаза его посверливали ребят с пьяным озорством. - Добре. Шабашь - разговор есть. Он грузно спрыгнул на землю и, постегивая по сапогу витым, желтой кожи хлыстиком, зашагал вразвалочку мимо кирпичных кладок к летней кухне.
Петька, кивнув ему вслед, подмигнул Савве, осклабился:
- Гуляет барин.
- Черт с ним. Подавай.
- Не зазря он добрый, надо думать.
- Черт с ним, говорю, подавай.
- Нет, браток, шабашить так шабашить. Работа, - Петька снова подмигнул, от нас не уйдет. Гульбой пахнет. Это уж как пить дать. По барину видно. Пошли.
- С чего это? - насторожился было Савва.
- Видно, дело есть.
- Какое еще дело?
- А там, - Петька снисходительно хохотнул, - увидишь.
Под навесом летней кухни по обе мастеровы руки сидели Валет и Зяма. Все трое плотоядно оглаживали глазами выставленную Дусей на стол четверть с самогоном. Так, наверное, выглядят утопающие за минуту перед очевидным спасением. Дуся колдовала над снедью. Савва с Петькой еще не успели опуститься на скамью, когда мастер нетерпеливо скомандовал девке:
- Лей.
Пили молча, не чокаясь. После третьего захода мастер, отодвинув от себя рукоятью крученого хлыста свою кружку, сказал как бы так, между прочим:
- Дочь замуж выдаю. Свояки чуть не со всего Кавказа съедутся. Так что место лишней телке найдется... В общем - ставлю две четверти самогону и по десять галочек в ведомость.
Наступила красноречивая пауза. Петька отвернулся и заскучал тусклыми глазами в сторону лесополосы. Дуся судорожно теребила в руках конец косынки, свисавшей у нее с плеча. Слово оставалось за Валетом. Не глядя на мастера, Валет потянул у него из рук жгучий хлыстик, сложил хлыстик вдвое и легонько хлестнул им по своей ладони.
- Заделаем.
- Но так, чтобы и комар носу...
- Заделаем, мастер, - упрямо и резко повторил Валет, - не в первый раз, заделаем.
Выпили еще по одной, и Зяма, исходя красными пятнами, нетерпеливо заерзал на месте:
- А если двух, мастер, двух?
В ответ тот смачно хрустнул огурцом:
- Вдвое и магарыч.
- И галочки?
- Иддет.
Валет поднялся и сказал:
- Надо выспаться.
Все встали, и мастер, по-хозяйски облапив стоящую у печи Дусю, сально хохотнул:
- Пошли, девка, мурашей давить. Во мне нынче дурная сила играет. Уважь не пожалеешь.
Дуся настойчиво отодрала от себя его руки и, привалившись спиной к опорной стойке, сложила белыми губами:
- Нет, мастер, не будет у нас с тобой сегодня никаких делов. Не согласна я больше, не хочу. Лучше уйду.
Мастер потерянно оглянулся, раскачиваясь, постоял против нее с минуту, потом густая, вязкая злоба хлынула ему в глаза, он резко откинулся назад и со всего размаха коротким толчком ударил ее в подбородок:
- Сука.
Но та лишь инстинктивно отвела голову, ожидая второго удара. В уголке Дусиных плотно сжатых губ выступило и стало, набухая, темнеть багровое пятнышко. Сбычившись, мастер снова шагнул было к ней, но тут между ними тенью вскользнул Зяма. Кровь схлынула с его лица, и лицо стало походить на жуткую маску, тронутую паутинкой недоброй гримасы:
- Хватит, мастер. Ты получил свое. Если тебе нужны проценты, ударь меня. Ее бить ты не будешь. Надо иметь совесть, хотя бы на всякий случай.
Бешеная муть захлестнула мастера, он схватил Зяму за ворот робы и притянул к себе:
- Ах ты харя, да знаешь, что я тебя в порошок сотру и плюнуть побрезгую! От тебя только вонь пойдет.
Зяма вырвался и, мгновенно подломившись, тут же выпрямился, и в резко очерченной руке его взмыла над головой кирпичная половинка.
- Я, мастер, ничего-таки не теряю. Тебя унесут ногами вперед на месяц раньше меня - и все. Лучше разойдемся, мастер, я не люблю крови.
Тот еще продолжал бешено утаптываться около Зямы, но по тому, как он беспомощно втискивал свой хлыст за голенище сапога и все никак не попадал, было видно, что злости его осталось на раз плюнуть. Неспокойными глазами он поискал было сочувствия у братвы, но Петька в ответ только заработал щербатыми скулами, а Валет скучным голосом сказал:
- Нам надо спать, мастер. Во хмелю дело не делается. И, знаешь, мы тоже люди. Ты посылаешь за кукурузой - мы идем за кукурузой. Тебе хочется птицу мы идем по птицу. Тебе нужна телка, - мы колем для тебя телку. Ты знаешь, что это такое. Это не уголовный кодекс, это самосуд - и конец. Но мы не отказываемся. Чего же тебе еще от нас нужно? Я прошу тебя, не трожь никогда больше Зяму и девку тоже не трожь...
Мастер сразу сник, будто увял. Так и не вдев хлыст за голенище, он повернулся и медленно побрел к бедарке, взгромоздился на нее и с неожиданным остервенением вытянул лошадь кнутовищем вдоль спины.
Едва не задев колесом крайней Степановой кладки, бедарка сделала головоломный вираж и бесшумной птицей вынесла седока на дорогу.
Степан, не отходивший все это время от своей печи, не дрогнув ни одним движением, угрюмо глядел ей вслед. Черный и бесформенный, он высился над заводской площадкой, как распятие у дороги.
Ночь, овеянная лунной изморосью, отстаивалась за окном густой сентябрьской тишиной. Савва глядел в нее, и оттуда, из степи, плыли к нему звезды.
Всю свою короткую жизнь он как бы метался в самом себе. Пробовал себя то в одном, то в другом, многое бросал на полпути, многим овладевал до конца, читал запоем книжки, но жизнь возвращала его к действительности, а действительность была тусклой и однообразной, как проселочная дорога осенью. И теперь он благодарил судьбу, столкнувшую его с Зямой. Здесь, на заводе, люди жили жесткой и трудной, но зато не придуманной жизнью. Ему еще трудно было разобраться в этом дьявольском переплетении почти животных страстей, слишком внезапно они втянули его в свой круговорот, но предчувствие открытия, открытия, решающего для него, важного, уже безраздельно владело им...