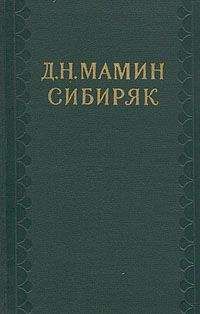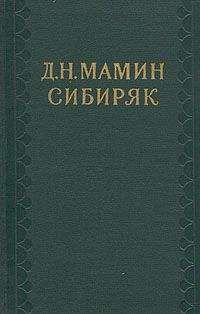— Даже самым убогим студентом был, — уверял Праведный, выпивая уже второй стакан с замечательным аппетитом. — Да, да… Был беднее самого Иова в дни его несчастия, и представьте себе, какой однажды вышел со мной преказусный случай. Жили мы, трое студентов, на Петербургской стороне, на Малой Дворянской улице, — и как это случилось, право, теперь не умею сказать, — только в одно прекрасное утро у нас на троих осталось из всей одежды всего-навсе только старые калоши, поповский подрясник и старая поповская шляпа… Даже самых необходимейших принадлежностей мужского туалета недоставало, — уж извините, Евмения Калиновна, за мою откровенность! Представьте себе, что происходило, когда одному из нас нужно было куда-нибудь выйти из дому… Но это еще ничего: выходили обыкновенно по вечерам, а история в том, что у меня была невеста, девушка из очень порядочного семейства, которая, не видя меня долго, понятно, очень скучала о моей особе и в один прекрасный вечер вздумала мне сделать небольшой сюрприз: отыскала мою квартиру и явилась, так сказать, на крыльях любви… Представьте теперь мое положение, господа!
— Ах, довольно, довольно! — стонала Евмения, хватаясь за бока. — Довольно!.. У-мо-рили…
— Нет, уж позвольте досказать, — настаивал Праведный, раскуривая сигару. — Вы ничего не имеете против моей сигары, почтеннейший Калин Калиныч?
— Нет-с, помилуйте-с, — лепетал старик. — Я ведь православный-с…
— Ну, дядюшка, есть грех, немного прикержачиваете, — мягко шутил Гвоздев.
— Ах, Аристарх Прохорыч, вам, ей-богу-с, грешно-с надо мной смеяться…
— Ну, дядюшка, не обижайтесь, я пошутил, — успокаивал Гвоздев огорченного Калина Калиныча.
— Господа, позвольте же мне анекдот-то докончить, — лениво заметил Праведный, попыхивая синим дымком дорогой сигары. — Согласитесь, господа, что моя невеста все-таки была женщина.
— О… ха-ха-ха! — со слезами на глазах хохотала Евмения. — Да, конечно, не мужчина же…
— Нет, я не то хотел сказать, — поправлялся Праведный. — Я хотел высказать ту мысль, что моя невеста, как женщина, конечно, была немного ревнива и могла заподозрить меня, по меньшей мере, в том, что у меня в комнате сидит какая-нибудь соперница и что я именно поэтому не отворяю ей двери… Кажется, ясно я выражаюсь? Ну-с, как вы думаете вышел я из этого чертовски затруднительного положения?
— Ах, довольно, довольно, Праведный, — кричала Евмения, кокетливо делая рукой такие движения, как будто отмахиваясь от комаров. — Понятно, что было дальше…
— Нет, уж позвольте докончить, Евмения Калиновна! — упорно настаивал Праведный. — Видите ли, у нас полкомнаты занимала братская кровать, на которой мы все вместе спали, вот я на нее и положил моих друзей, прикрыл их для приличия одеялом, а сам надел калоши и подрясник… Теперь представьте себе такую картину: на кровати из-под одеяла выставляются головы моих друзей, я стою посреди комнаты в поповском подряснике, а в отворенную дверь с изумлением смотрит моя невеста… Понятное дело, что все разрешилось смехом, и моя невеста только лишний раз убедилась, что я невинен, как сорок тысяч младенцев, так как мои товарищи меньше всего походили на женщину: у одного гусарские усы, у другого борода, как у Аарона.
В комнате Калина Калиныча несколько минут стоял заразительный смех: смеялся Гвоздев, с достоинством поглаживая свою бороду, смеялся до слез Калин Калиныч, схватившись за бока и порываясь выскочить из-за стола, а Евмения, закатив глаза, только тяжело дышала, как загнанная лошадь.
— Ну, не желала бы я быть на месте вашей невесты, господин Праведный, — заговорила Евмения, когда общий припадок смеха немного прошел. — Хоть вы и оказались невиннее сорока тысяч младенцев, но все-таки… Где вы, Аристарх Прохорыч, откопали такого адвоката?
— Москва — очень обширный город, — скромно отвечал Гвоздев. — Там умных людей все равно, как у нас дров…
Посидев еще немного и поговорив о каких-то пустяках, Гвоздев поднялся из-за стола и, обращаясь к Калину Калинычу, проговорил:
— Ну-с, дядюшка, сидят-сидят да и домой ходят… До приятнейшего свидания!..
Праведный долго держал в своих красных лапищах руку Евмении и довольно фамильярно шепнул ей на ухо что-то такое, от чего даже Евмения вспыхнула вся до ушей, а Калин Калиныч строго сложил свои губы ижицей. Простившись, гости вышли в сопровождении Калина Калиныча. Он все время стоял у ворот, пока Праведный влезал в экипаж. Усаживаясь рядом с Праведным, Гвоздев вопросительно посмотрел на своего адвоката.
— Каши маслом не испортишь, — многозначительно проговорил Праведный, не зная, куда деваться с своим ужаснейшим животом, упиравшимся ему в колени.
Когда лошади тронулись, Праведный не менее многозначительно указывал пальцем на свой лоб, кивая головой в сторону избушки Калина Калиныча. Евмения сейчас же скрылась за перегородкой, а вошедший Калин Калиныч был очень встревожен: обычное неизменное добродушное настроение, казалось, совсем оставило старика.
— Приехали и уехали, — думал он вслух, позабыв о моем присутствии. — Венушка, о чем с тобой шептался этот Праведный?
— Анекдоты, родитель, рассказывал, — отозвалась Евмения усталым голосом из-за своей перегородки.
Я скоро простился с Калином Калинычем. Старик вышел провожать меня на крыльцо и, пожимая мою руку, заговорил:
— Ведь вот какой у меня карахтер сумнительный: ночь не буду спать, а все буду думать, зачем приезжал этот Праведный… Они, может, и с добром приезжали ко мне, а я все буду сумлеваться, потому больно ноне народ мудреный стал-с. Вот хоть Аристарх Прохорыч: ведь уж знаю-с, что он виноват, во всем как есть виноват-с, а вот поди со мной, совесть уж такая подлая, — как заговорил он давеча жалобные слова, так вот у меня слезы и стоят в горле… Ей-богу-с… О-о-хо-хо! Горе душам нашим. Заходите напредки-то, милости просим! А я сейчас схожу к отцу Нектарию, — надо будет поговорить с ним, а то уж очень сумнительно-с.
Вечером в клубе слышалась музыка и говор. От нечего делать я пошел в общую залу, чтобы посмотреть на заводскую публику. Помещение клуба состояло всего из четырех комнат, меблированных с трактирной роскошью. Около стен неизменные диванчики, покрытые темно-красным трипом, венская мебель, затасканные драпировки на окнах, захватанные двери и бронзовая люстра в общей зале. Главную массу публики притягивала к себе карточная комната, а затем буфет. Около девяти часов обычная клубная публика, кажется, была в полном сборе; явились скучающие дамы и кавалеры; последние прежде всего летели, для подкрепления сил, в буфет. Музыка пиликала какую-то чепуху, под которую вяло толклось в общей зале несколько пар.
По дороге в буфет я неожиданно встретил самого Федора Иваныча Заверткина, который тащил под руку Пальцева и издали кричал мне:
— Вот так пьет!.. Отроду ничего подобного не видал: как воду пьет!
— Кто и что пьет? — спрашивал я, не понимая Заверткина.
— Ах, господи!.. Да все он же, Праведный, пьет… Представьте себе такую картину: он без бутылки водки не садится завтракать и подсидит ее один на один, за обедом выпивает таким же образом другую, а вечером еще шампанское душит, и ни в одном глазу… Понимаете: ни в одном глазу?! Это просто какой-то феномен… Да ведь вы только поймите: бутылку за завтраком, бутылку за обедом, вечером шампанское… Да, да, это решительно феномен. В спирт, прямо в спирт бы его следовало посадить, да ведь, каналья, спирт-то весь выпьет… Феномен, решительно феномен!..
Эти два друга представляли и вместе и порознь нечто очень замечательное: Федя Заверткин был тонок, вихляст и высок, горбился и раскачивался на ходу и постоянно вздергивал голову, как взнузданная лошадь; Пальцев, наоборот, был небольшого роста, некрасиво скроен, да плотно сшит, и выглядел кочнем, а когда шел, то имел привычку сильно размахивать руками и слегка переваливал на своих коротеньких ножках, точно откормленный селезень. Физиономия Заверткина носила на себе ясные следы непроходимой глупости, пошлости и задора; его небольшие слезившиеся серые глазки смотрели нахально до мерзости, а по сморщенным губам ползала отвратительная улыбка, какою смеются только люди глубоко и безнадежно развратные. Круглое румяное лицо Пальцева с рыжими щетинистыми усами было некрасиво, но приятно своим умным выражением; особенно хороши были его насмешливые глазки, юлившие под густыми рыжими бровями, как пара мышей. Пальцев вообще был очень умный человек, но его губил один недостаток: очень добрый и простой человек по душе, он имел удивительную способность врать, — врать до того правдоподобно, что вводил в невольное заблуждение самых осторожных людей, хотя все заранее знали, что верить Пальцеву нельзя. Как добряк и чудак, Пальцев пользовался репутацией доброго малого, которому многое сходило с рук, хотя он своими шуточками часто высказывал горькую правду прямо в глаза.