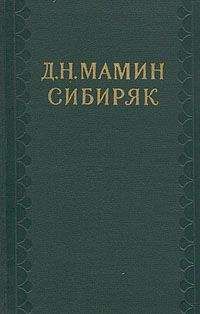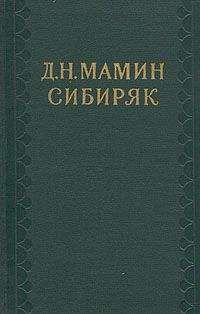— На той неделе поехали мы с «Мамочкой» в Загорск, — рассказывал старик, кивая головой на Хряпина, которого он почему-то называл «Мамочкой». — Город большой, мы и загуляли, а вечером — в трактир «Плевну». Ну, там арфянки, всякое прочее. Спели нам, поужинали, побезобразничали, а все скучно… Я и говорю: «Мамочка», скучно… Устрой, говорю, «Мамочка», какое-нибудь безобразие». А он молчит, а потом как сгребет салфетку да об пол всю эту музыку, арфянки бежать, а «Мамочка» поймал хозяина «Плевны», завязал его в салфетку да под стол и затолкал. Арфянки визжат, хозяин под столом орет караул, а мы с «Мамочкой» давай бог ноги… О-ох-хо, согрешили мы, грешные!
«Мамочка» сидел как ни в чем не бывало, jeunesse doree хохотала до слез, а подгулявший Заверткин от восторга даже полез целоваться с «Мамочкой».
Появившийся Праведный привалил, конечно, прямо к буфету, где около этого столичного светила сейчас же собрался кружок, ожидавший тех удивительных анекдотов, которые умел рассказывать только один Праведный. Оставленный всеми, Печенкин вылил две оставшихся бутылки вина на салфетку и побрел в сопровождении своих адъютантов в общую залу, где происходили танцы. Заверткин заглядывал прямо в рот своему идолу и глупо хохотал, как человек, которому щекотят подошвы; Пальцев поместился рядом с Праведным и, подмигивая одним глазом, говорил:
— А ведь, ангел мой, отлично вам живется на свете: сколько одного вина, ангел мой, выпьете. Вот про нас одних разговоров сколько: становой, говорят, черту брат, и еще прибавят, ангел мой, такое что-нибудь, что сквозь землю провалиться… Всякий на тебя пальцем указывает: становой, с живого и мертвого дерет!..
— Ну, и у нас это бывает, — хладнокровно отвечал Праведный, выпивая свою вечернюю порцию водки. — Желал бы я вас поставить на мое место… Мне недавно, например, пришлось защищать одного субъекта, который обвинялся в убийстве. Дело в том, что двое крестьян убили третьего, который умер дома от пролома головы, и мне нужно было доказать только то, что мой доверитель в момент убийства находился на другом конце деревни, чем убитый…
В этот момент со стороны танцевальной залы послышался какой-то шум, крик и визг; все бросились из буфета.
— Ах, это опять Печенкин бушует, ангел мой, — озабоченно говорил Пальцев, направляясь на шум вместе с другими.
Скоро вся публика собралась в общей зале, где кучка дам боязливо столпилась в одном углу, а мужчины стеной окружили небольшую деревянную эстраду, на которой помещался оркестр.
— Руськую!.. Я говорю: руськую! — кричал Печенкин, стуча кулаком по столу. — Всех вас одним узлом завяжу… Руськую!..
— Нельзя-с, мы играем по расписанию-с, — вежливо отвечал капельмейстер.
— Ах, ангел мой, так нельзя! Нельзя, ангел мой! — кричал Пальцев, продираясь сквозь толпу к Печенкину. — Здесь общественное место, ангел мой, дамы…
— А мне наплевать на ваших дам! — кричал старик. — Я весь бал за себя переведу… Сколько стоит все: получай и гуляй в мою голову, почтенная публика. Руськую!..
Пальцев немного пошептался с распорядителем и махнул музыкантам рукой; музыка грянула «Камаринскую», публика расступилась, и неистовый старик начал откалывать свою «руськую» так, что седые волосы раззевались на его голове да летели по воздуху длинные полы сюртука. Окончив пляску, Печенкин побрел опять в буфет. «Мамочка», как ручной медведь, лениво поплелся за стариком, покачиваясь на каблуках и расправляя свои могучие плечи. Публика, кажется, привыкла к подобным сценам, потому что сейчас же музыка заиграла прерванную кадриль, и дамы принялись дотанцовывать четвертую фигуру. Димитраки танцевал с женой Заверткина, и по его наглой, улыбавшейся физиономии было видно, что он говорил своей даме какие-нибудь пошлости. Я хотел отправиться в свой номер, как в углу одной комнаты заметил Евмению, которая сидела в каком-то полузабытьи и не слыхала, кажется, ничего, что происходило вокруг нее. Я назвал ее по имени.
— Ах, это вы!.. Как вы испугали меня, — заговорила девушка, точно обрадовавшись моему появлению. — Что вы стоите? Садитесь… Вы, вероятно, удивились, что я могу задумываться, да?
Евмения улыбнулась печальной, больной улыбкой, и мне показалось, что на ее больших глазах блеснули слезы.
— Вы слышали, как бушевал Печенкин?
— Когда?
— Да вот сейчас только.
— Ах, да… Нет, я не слыхала, но ведь это слишком обыкновенная история, и нас этим не удивишь, — усталым голосом говорила Евмения, нервно ощипывая какую-то ленточку на своем платье. — Ведь это же скучно, наконец… Скучно, скучно, скучно!.. Иногда думаешь про себя, — продолжала Евмения, опустив глаза, — стоит ли жить на свете… Ведь все равно как в берлоге живешь!.. Вот бы на сцену поступить…
Девушка искоса взглянула на меня и продолжала уже взволнованным голосом:
— Можно бы полжизни отдать, чтобы другую половину прожить по-человечески… А как взглянешь на себя в зеркало, будто холодной водой и обольет: и мала, и суха, и безобразна… Такое отчаяние нападет, что не глядел бы на свет! Ах, если бы мне рост, — понимаете, всего бы несколько вершков прибавить росту, — прямо бы на сцену поступила… Когда я бываю в театре, со мной просто дурно делается. И ведь чувствую, что сыграла бы, очень хорошо сыграла, особенно в драме, — знаете… в «Грозе» Островского ту сцену, где Катерина мечтает, и, потом, когда она начинает сходить с ума. Вот что я сыграла бы, если бы не проклятый мой рост!
Я, как умел, разуверял Евмению, что недостаток роста на сцене делается незаметным благодаря длинным шлейфам и большим каблукам, но что для сцены нужно очень серьезное образование и специальная подготовка, которой недостает даже лучшим русским актрисам.
— Да разве можно сделать из меня какой угодно подготовкой купчиху Катерину, бабу — кровь с молоком? — говорила Евмения, с презрением оглядывая себя.
— Ведь есть роли и кроме Катерины…
— Да, да… И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?
Евмения не слушала меня. Она думала о чем-то другом и, по своему обыкновению, неожиданно захохотала.
— Вот, я думаю, вы потешаетесь-то надо мной, — говорила девушка, ломая пальцы: — ведь прямая провинциальная дура, а еще захотела на сцену… Ха-ха-ха!.. Дочь Калина Калиныча и — на сцене: ведь это так же невозможно, как жареный лед, да?.. Вы смеетесь надо мной, как над сумасшедшей, но я ведь нисколько не обижаюсь этим: по Савве и слава… У нас в Старом заводе бывают иногда любительские спектакли, — немного успокоившись, рассказывала Евмения. — Только они без скандала никогда не обходятся. У нас есть здесь немец-управляющий, Штукмахер; он придет на спектакль всегда вместе с Димитраки, и всегда пьянее вина, и начинают ругать актеров вслух всякими словами. Однажды дело дошло до того, что они во время действия бросились на сцену и давай колотить актеров и актрис. Штукмахер тогда сильно избил одного учителя, Младенцева. Впрочем, он уже не в первый раз его колотил: раз, на пожаре, этого же Младенцева Штукмахер до полусмерти избил палкой.
— Что же, Младенцев жаловался?
— Как же… Только ведь жаловаться приходилось Заверткину, а Заверткин всегда оправдывает Штукмахера, потому вместе безобразничают. Младенцев подал на Заверткина жалобу в съезд мировых судей, а съезд отказал, потому что там все благоприятели Заверткина насажены, а Митрошка, «Министр»-то наш, за это Младенцева из учителей в три шеи.
— Ну-с, а публика что смотрит, когда Штукмахер с Димитраки актеров колотят?
— Публика?.. Да ведь они и публику не хуже нас ругают, так уж мы привыкли к этому. В последний раз у нас спектакль был назначен в заводских конюшнях. Устроили сцену, места для публики. Только является Штукмахер, взял да комнату, из которой должны выходить актеры на сцену, и велел запереть, а нам на сцену и пришлось лазить со стороны публики… Ей-богу! А Штукмахер кричит: «А, такие-сякие, пусть лазят, как собаки!..» Однако прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, поднимаясь с места. — Мне пора домой… Вон адвокат Печенкина высматривает меня, чтобы душу тянуть. Ведь я свидетельница по этому дурацкому делу Гвоздева с Печенкиным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно устала, — говорила разбитым голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, увидимся на суде.
Я проводил девушку до передней. Она молча кивнула мне головой и, быстро одевшись в какое-то ветхое пальто, исчезла в дверях. Вернувшись в клуб, я еще долго толкался между остальною публикой, продолжая думать об этом странном маленьком существе, по-видимому сгоравшем от избытка сил. У меня еще стоял в ушах ее дикий смех, резкая интонация голоса и те печальные ноты, которые прорывались так неожиданно сквозь эту бравировку и отчаянную веселость; в этом странном, злобноподвижном лице учительницы скользило общею тенью что-то недосказанное, что-то, что давило ее и просило выхода. Маленькая комната с полками книг, фотографиями знаменитостей, кипами бумаг и гитарой в углу, затем сцена с Праведным и, наконец, этот разговор в клубе — все это освещало Евмению с совершенно противоположных, ничего не имевших между собой общего сторон: то учительница, считающая верхом блаженства носить стриженые волосы и говорить дерзкие слова; то куртизанка, делающая глазки и кокетничающая с первым встречным; то будущая Рашель… Это были такие противоречия, которые никак не укладывались в голове.