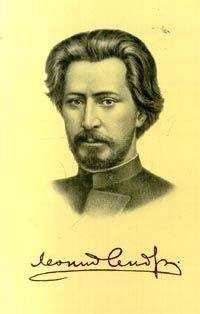Василиса Петровна. Возьмут, да завтра же и придут. И как вы не боитесь, и как вы можете спать!
Кулабухов. Сплю. Совершенно спокойно. Зачем мне беспокоиться? — Я стар, чтобы беспокоиться, я двести лет прожить хочу. Что? Ты зачем мышьяку купила, а? — мышей травить?
Василиса Петровна. Мышей.
Кулабухов. Хе-хе! Знаю я, какие это мыши! Да — рада бы, а не смеешь. Двадцать лет, да! И не боюсь, никого не боюсь, все приходи, не боюсь. Один ложу, дверь не запираю, зачем? Не смеет, никто не смеет.
Василиса Петровна. Да ну вас. Я за обедом пойду.
Кулабухов. Иди! Меня нельзя трогать, я человек. Не боюсь! Не смеешь! Все хотят, зубы скалят, а нельзя, хе-хе, нет. Человек! За меня все законы, за меня Бог — Вседержитель, да.
Василиса Петровна. Не человек вы, а поганка, зверь кровопиющий.
Кулабухов. Врешь! Зверь на четвереньках ходит, а я человек. Вот две ноги, эге, что? У-у, Митька-наследник злой, проклятый, вор, глаза как у волка, — у, Митька-наследник: не смеешь! Ты меня убьешь, а тебе каторга, двадцать лет, да! Ты меня убьешь, а я тебе по ночам являться буду. Явлюсь! По закону явлюсь, по праву моему явлюсь, над сердцем твоим стану, кровь высосу!
Василиса Петровна, слушавшая со страхом, быстро выходит. Кулабухов один. Трясет яростно сухими кулаками, вызывающе хихикает и в то же время почти плачет.
Ага, испугалась, дрянь! И тебе явлюсь, что? Я убиенный, да. Хе-хе, я знаю как: ты в ледник за молочком пойдешь, а я за дверкой стану, за дверкой стану, — убиенный, да. Ты на постельку ляжешь, а тебя ручкой по одеяльцу, по одеяльцу. У, Господи, заступись, заступись! Все хотят, все хотят убить, все хотят, о Господи Боже мой, не оставь, я старенький. Заступись, заступись, за убиенного Петра, за убиенного Петра…
Невнятно бормочет. Василиса Петровна выносит из кухни глубокую тарелку с картошкой и ломоть черного хлеба; очень бледна, говорит презрительно.
Василиса Петровна. Вот вам. Больше ничего нет.
Кулабухов (угрюмо ест). Говядинки дай.
Василиса Петровна. Нету говядины.
Кулабухов. Смотри! Чтоб завтра говядинка была, а то выгоню. И чтоб огурчик был, слышишь? И Яшку, твоего любовника, тоже выгоню.
Василиса Петровна. Да? А что, ежели за такие слова, Петр Кузьмич, я вам пощечину дам?
Кулабухов. Не смеешь.
Василиса Петровна. Свидетелей-то нет.
Кулабухов (менее уверенно). Не смеешь. Я старик, у меня волосы седые.
Василиса Петровна. А я женщина! Вот возьму и ударю.
Кулабухов (вставая). Ты, дура баба, ты здоровая, а у меня волосы седые. Я старичок; ты меня только пальцем тронешь, а я умереть могу. Ты, дура, не подумай…
Быстро входит соседская горничная Маргарита, высокая, красивая, черноволосая девушка. На ней платок от дождя.
Маргарита. Вот и я к вам. Да милая ж вы моя Василиса Петровна… (останавливается, увидев Кулабухова.) Ох, напугал — вот кто здесь!
Василиса Петровна. Снимай платок. Маргариточка, не бойся.
Маргарита. Я и не боюсь. Это вы его боитесь, а я вольная. Что глаза вытаращил, тетеря?
Василиса Петровна. Оставь его, Маргарита. Он сейчас уйдет. Идите, Петр Кузьмич.
Кулабухов. У-у, какая сердитая! Мой дом, а не твой, что? Возьму и выгоню: зачем пришла в чужой дом? Ага. Вот ты и пойдешь.
Маргарита. И не смеешь выгонять.
Кулабухов. Нет, выгоню.
Василиса Петровна. Да оставь! Он два часа препираться будет, только бы с людьми посидеть! Ступайте, ступайте, Петр Кузьмич. Поели и идите. Такого уговора у нас нет, чтобы с вами беседовать.
Маргарита (притворно топая ногами). Ты уйдешь или нет?
Кулабухов испуганно открывает дверь, но еще на минуту оглядывается, хихикает.
Кулабухов. Салон, хе-хе! Музыка и разговоры, так, так! А я все равно послушаю, стану за дверкой и послушаю. Что?
Уходит.
Василиса Петровна. Напрасно ты так грубо, Маргарита, нехорошо, мне не нравится. Он все же человек не твоего круга…
Маргарита. Да, милая ж вы моя! Да как же можно такого терпеть!
Василиса Петровна. Нет, нет, Маргариточка, нет! Я и Якову тоже говорю. Сейчас Петр Кузьмич в несчастном положении, а когда-то он открытый дом держал, в нем даже губернатор заискивал. У него, душечка, и сейчас такие капиталы, что от одного воображения можно сойти с ума. Злой он, это правда, но мало ли злых?
Маргарита. Нет, дорогая Василиса Петровна, не могу я с вами согласиться. Капиталы его мне не нужны, а только скажите вы мне — ах, да и милая ж вы моя, да скажите вы мне! до каких пор они мудровать будут, а мы плакать да травиться? Или так без конца и пойдет? Мой-то, подлец-то мой, мучитель-то мой — так ведь и лепит: травись, Маргарита, тебя ангелы на небо возьмут.
Василиса Петровна. Грозила ему?
Маргарита. Грозила.
Василиса Петровна. Упрекала?
Маргарита. Упрекала.
Василиса Петровна. А он что?
Маргарита (плачет). Смеется. Да милая ж вы моя — смеется!
Василиса Петровна. Разговор был?
Маргарита. Был. Сегодня утром. Как же, говорит, я могу на тебе жениться, когда ты тварь, а я чиновник! Так и лепит, так всеми словами и печатает: тварь! А сам дрянненький, нечистый, похабник, разные картинки покупает, — ах, да и милая же вы моя Василиса Петровна, я царица перед ним! На него утром посмотреть, как он еще галстучка не надевал, уж такая он гадость, уж такая гадость.
Василиса Петровна. Ушла бы от него! Что мучиться!
Маргарита. Не хочу! Ведь не тварь же я на самом деле, ведь я царица перед ним! В тысячу глаз на меня гляди, пятнышка на моем теле не найдешь — ах, да как березынька я белая…
Василиса Петровна, Да что он хоть говорит? Язык-то у него есть?
Маргарита (плача и смеясь). Да только и говорит, что тварь… и голубушка вы моя, так он меня этим словом очаровал, что как очарованная я. Ослепил меня, оглушил меня, все дороги-пути загородил. Иду — куда, тварь, идешь? — так и стану как вкопанная. Стану и руки опущу. Так и стою. Вся голова у него с луковку, а как скажет он: тварь, так и поразит меня громом, слова в ответ не найду. Сегодня, будто, и нашла слово, да и не слово, а так…
Василиса Петровна. Что?
Маргарита (улыбаясь, мечтательно). Да так. Пузыречек с серной кислотой ему показала.
Василиса Петровна (испуганно). Ну, ну, ну — брось! Что ты, девка, с ума сошла. Да как же это можно! Ах, ты девка несчастная.
Маргарита (задумчиво). Я уж бросила. Показала я ему и жду, что будет. Ну — побледнел он, сморщился весь, затрясся, прыщавый, а у двери-то я стою и уж пробку вынула. Ну — и вот все уж тут, податься-то некуда, а он говорит: вот видишь, какая ты тварь! (Берется за голову, рассеянно.) Ох, правда, отравиться, что ли?
Молчание.
Да как подумаю, что он на то место плюнет, где я буду лежать, и скажет: вот и издохла, тварь, — так и травиться не стоит. Пожаловаться я к вам пришла, Василиса Петровна.
Василиса Петровна. Мне кажется, Маргариточка, что здесь вообще происходит какое-то недоразумение. Ах, голубчик, ну и почему так холодно и вот шпалеры обвисли — видеть не могу этих шпалер. И почему так холодно? Дурой ли я стала такой, ну вот не могу понять: почему холодно, да и только. Да я и дни-то позабыла — что у нас сегодня, четверг?
Маргарита. Четверг. Не топлено, оттого и холодно.
Василиса Петровна. Ну, конечно, от этого. Но почему не топлено? Послушай, душечка: однажды едем мы с графиней Назаровой в автомобиле — я тогда у нее уж второй год в экономках служила — и, знаешь, я так хорошо одета, к лицу, а сижу я на переднем месте. А рядом с графиней собачка ее сидит — и долго я этого, друг мой, не замечала, да как-то и заметила! Да, не замечала, да вдруг и заметила!
Маргарита. Ну хорошо. Ну пойду я — сонного его зарежу, а какой толк? Явится еще да и скажет: зарезала, тварь! Тогда уж не докажешь.
Василиса Петровна. Да, тогда уж не докажешь.
Маргарита. Я и говорю: не докажешь. Яшина балалайка?
Василиса Петровна. Яшина.
Маргарита. Повидать бы мне его хотелось… Ах, уж не знаю я, куда мне ткнуться. Будь бы лес, в лес убежала бы. Или вышла бы я за заставу, да так в темноту и пошла бы. И шла бы я, и все шла бы я долгие годы, так и шла бы, руки к груди прижавши, глаза устремивши…
Молчание.