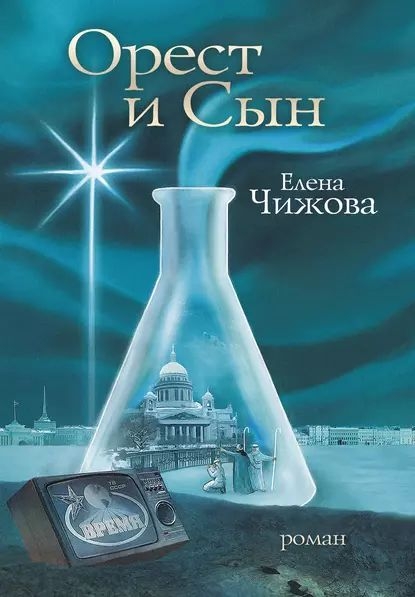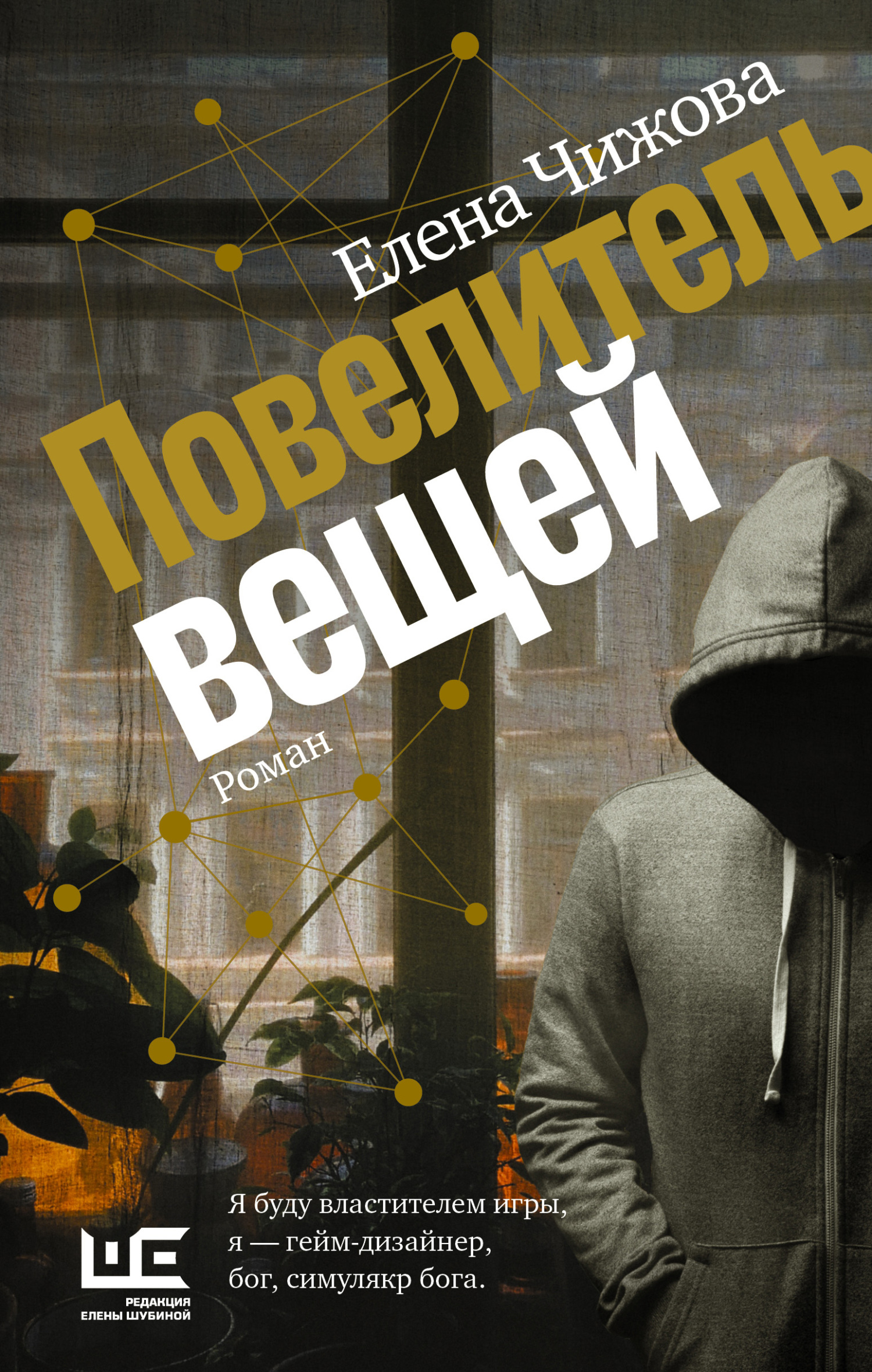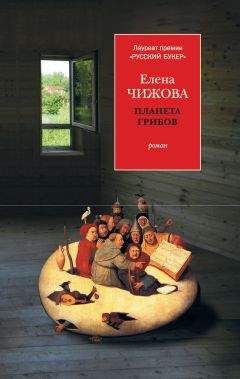Экран занялся нежно.
Орест Георгиевич кивнул: в последний раз Павел приходил с месяц назад.
Эфирную пустоту сменил циферблат останкинских часов. Эталонная стрелка вступила в последний квадрат: пять секунд — полет нормальный, десять секунд — полет нормальный, пятнадцать секунд… — и обратным счетом, приноравливаясь к судорожным кровеносным толчкам: два, один, ноль! — из глубины эфира, описывая заранее рассчитанную траекторию, вылетел новорожденный спутник.
Диктор произнес обычное приветствие и потупил глаза. На экран, как тяжелое солнце, выплывал хор старых большевиков. Верхний ряд состоял из старцев, нижний — из старух, затянутых в бархатные платья. Морщинистые шеи были убраны кружевами. Хор исполнял гимн Советского Союза.
Прислушиваясь к звукам, знакомым с детства, Орест Георгиевич думал: «Опаздывает. На него не похоже…»
Торжественно-смиренная мелодия двигалась верхним, стариковским, рядом. Их глаза смотрели спокойно и отстраненно, не предавая этот мир ни хуле, ни хвале. Единственное, что можно было заметить в голубоватых, уже беспомощных глазах, — еще не отмершую потребность рассказать о своей жизни, о том, что сотворил с ними их долгий век.
Всплыло абсолютно невозможное: отец, поющий в хоре. Орест Георгиевич сморщился и мотнул головой.
Нарумяненные старухи выпевали слова о кровавом мщении. В их глазах тлел огонь. «Так и ждут, чтобы кинуться на врага всей стаей. Уж эти растерзают… Любого, кто посмеет предать хуле их единственно верное учение… Вот кому хорошо в коммуналках… Впрочем, — он хмыкнул, — уж эти точно не в коммуналках. Позаботились о себе…»
Чибис, стоявший за спиной отца, думал о том, что эти старики и старухи боятся смерти.
Словно расслышав его мысли, руководитель хора возразил с экрана: «Мы смерти не боимся. Мы отдали жизнь борьбе за справедливость. Наша жизнь принадлежит Партии, и…» — план прервался, как будто режиссер постеснялся пустить в эфир продолжение, но Чибис успел себе представить Партию в виде огромной седой бухгалтерши, аккуратно заносящей в толстый гроссбух отданные ей жизни.
— Не опоздал? — в телевизионном экране отразился Павел Александрович. Пахнуло дорогим коньяком. — Между прочим, двери полагается закрывать. Мало ли кто воспользуется… А? — он подмигнул Антону. — Отбой воздушной тревоги! Не беспокойтесь, дорогие товарищи, двери я закрыл. Так, — Павел обернулся к телевизору, — эт-то что такое?
Орест Георгиевич смотрел на экран. Старческий концерт затягивался.
— Неужто помер? Лично наш дорогой и любимый? — Павел переменил тон.
— Вряд ли… С утра бы траурное гоняли, — Орест покосился на Антона: при сыне старался избегать этих разговоров.
— А эти-то откуда? — Павел смотрел на экран. Камера скользила по старушечьим лицам. — Бр! — он передернул плечами. — Прямо эринии какие-то… А? Или гарпии? Кстати, никогда не понимал разницы, а ты?
— Не помню… — Орест откликнулся неохотно. — Вроде бы гарпии — полуженщины-полуптицы. Или — наоборот.
— Эринии — старухи, — Чибис вспомнил картинку из старой энциклопедии. — Три: Алекто, Тисифона и… еще одна, я забыл имя. У них еще змеи вместо волос. И факелы в руках, и кровь изо рта капает.
— Фьють! — Павел присвистнул. — Да… Описание впечатляющее. Тезку-то твоего кто преследовал?
— Нет, точно не помер, — Орест Георгиевич нажал на кнопку. Экран съежился шагреневой кожей. — Прости, — он посмотрел на Павла. — Что ты?..
— Ореста, Ореста. Его-то кто преследовал?
Орест Георгиевич разглядывал плоеный торшер.
— Конечно, эринии, — вступил Чибис. — Мстили за убийство матери.
— Матери? — Павел Александрович поднял брови. — Разве? А мне казалось…
— Что тебе казалось? — Орест Георгиевич переспросил напряженно.
— Нет, ну что вы! Я точно помню, — Чибис заговорил торопливо. — А хотите, могу проверить… — он вскочил с места.
— Сейчас же сядь и прекрати! — Орест Георгиевич приказал громко и раздраженно.
— Но я же… я только…
— Не понимаю! У нас что — научный семинар? Или мы…
— Пожалуйста, успокойся, — Павел поднял руку. — В любом случае Антон-то здесь при чем? Виноват я, завел дурацкую тему…
— Ладно, — Орест Георгиевич опустился в кресло. — Проехали.
— Господи! — Павел схватился за голову, изображая ужас. — Из головы — вон! Я ведь не один, — он произнес торжественно и, распахнув дверь, отступил в сторону. — Представьте, стояла на лестнице. Не решалась войти.
В дверях показалась Инна. Вошла и остановилась, положа руку на портьеру. Кисть тонула в плюшевых складках.
— Батяня твой, а? — Павел Александрович подмигнул Чибису. — Суро-ов, бродяга! Всех запугал…
— Вот, — Инна достала из кармана красноватую бумажку. — Раньше не получилось. У нас был потоп.
Орест Георгиевич смотрел мимо.
— Что вы говорите! — Павел воскликнул, будто речь шла о чем-то приятном. — И кого же вы топили?
— Не мы, а нас. Три дня лило, — она говорила серьезно, словно дом, отрезанный потопом, три дня носился по водам залива, пока его обитатели боролись за жизнь.
— И как же вы спасались? Надеюсь, попарно? — Павел Александрович гнул свою линию.
Чибис стоял в стороне, тревожно прислушиваясь. Сегодня ее голос звучал выше и напряженнее. «И еще… — он вдруг понял, — лицо». Что-то стягивало черты, делая их жесткими.
— Да мы вообще ни при чем. Тетя Лиля виновата — оставила краны. Все говорят — нечаянно, а я думаю — нарочно. Мама ее жалеет, говорит: все дети умерли, а я думаю…
— Умерли? Когда? — отец перебил.
Вопрос прозвучал странно, ответ — тем более:
— Никогда. Сразу, не успели родиться. Двое, а квартиру дали трехкомнатную. Как нам, — она одернула рукав