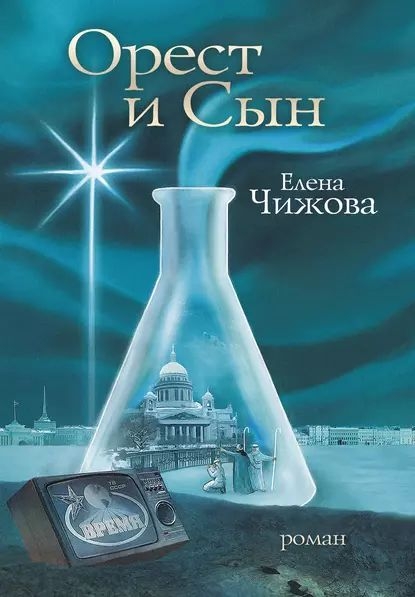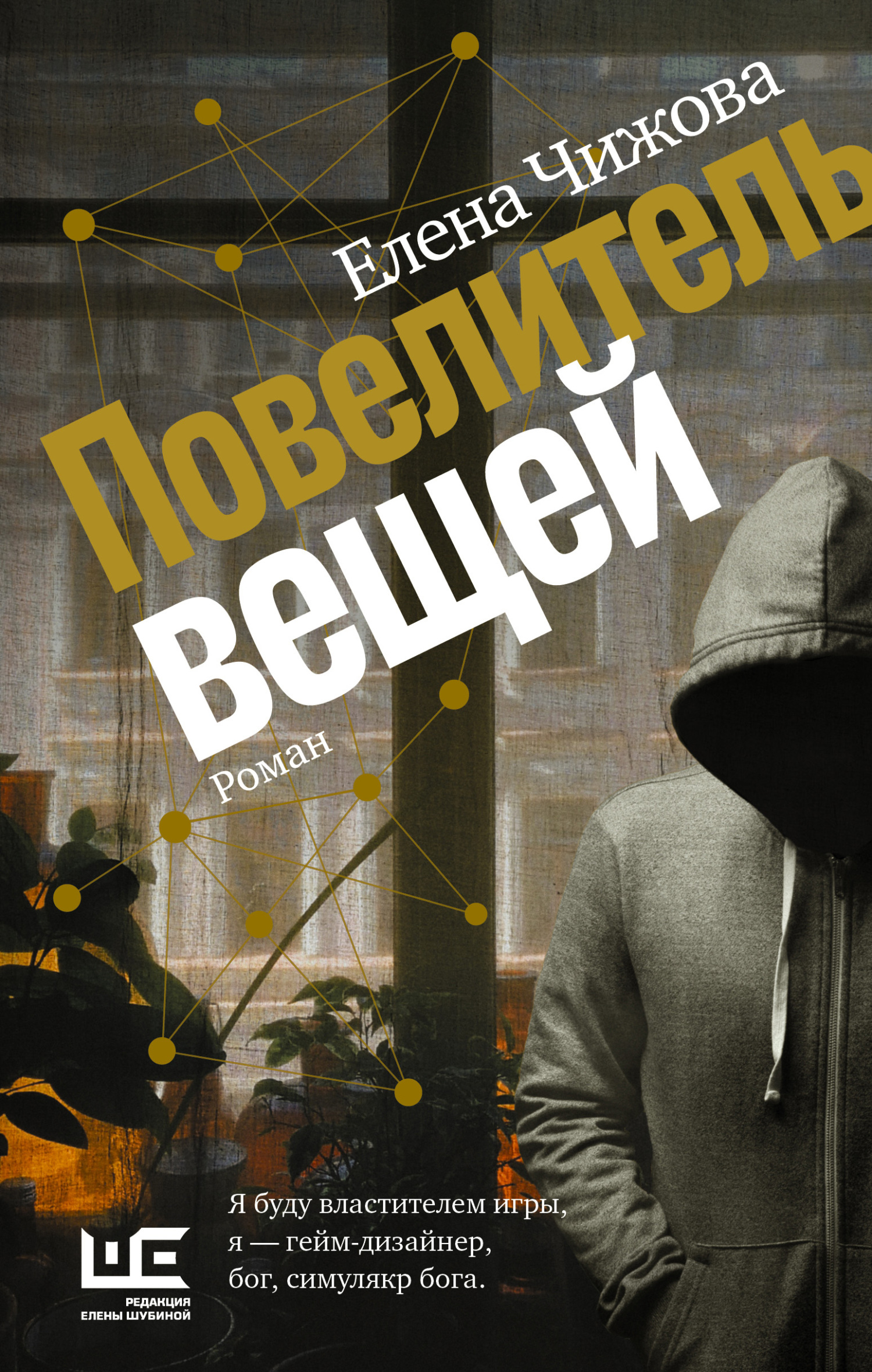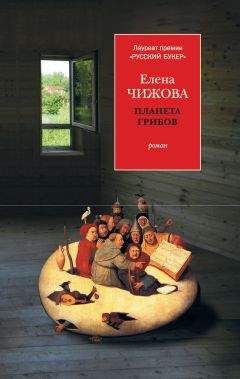блузки. — Скажете, это справедливо?
Орест Георгиевич покосился на десятку, лежавшую на столе. Эта девочка повторяла чужие слова. Должно быть, так рассуждали ее родители, у которых она выпросила деньги.
— Странно… — он почувствовал жжение, словно в ладонь впилась острая щепка. — Какой справедливости вы ищете? Если все дети умерли? Это… — он старался говорить спокойно, — такая несправедливость, что отдай вы хоть все свои комнаты…
— Мы? — она одернула другой рукав. — При чем здесь мы?
— При том… — он чувствовал, что сбивается с мысли, но не мог остановиться, — что вы живы.
— Так что ж теперь? — она смотрела холодно и враждебно. — Нам тоже умереть?
— Вам — не надо, — Орест Георгиевич смотрел на красноватую бумажку с ленинским профилем в овале, как будто пытался уловить связь. — Тем более, — встал и отодвинул кресло. — Тем более… Пока что умираем мы.
— Так-так-так, — Павел Александрович поднял руки. — Пора договариваться о терминах. Вы, — обернулся к Инне, — насколько я понял, имеете в виду социальную справедливость. Кто-то воспользовался служебным положением. Увы, в этом вопросе даже наше самое совершенное в мире общество пока что не вполне совершенно, — он усмехнулся. — Повторяю: пока! Решить эту задачу призваны грядущие поколения. Что касается вашего оппонента, он говорил о другой справедливости, которая, как бы это сказать… не пересекается с вашей. Надеюсь, — он обратился к Оресту Георгиевичу, — я хорошо объяснил.
Орест Георгиевич кивнул. Ему показалось, Павел верно выразил его мысль, и теперь эта девочка поймет.
— Как параллельные прямые? — она переспросила, но Чибис услышал вежливую издевку: так разговаривают с тупыми учителями одаренные ученики.
— Да, да! Именно, — отец подхватил доверчиво.
— Предпочитаю другую систему аксиом. Вот вы говорите: разные справедливости. Хорошо, возьмем мою тетю. Ее дети умерли — это несправедливость. Но другие-то чем виноваты? Но она же всех ненавидит. И не просто. Не ждет, а действует: то газу напустит, то воды. Ну и где здесь справедливость?
— Я хочу сказать другое, — отец ответил твердо.
— А вы говорите, — теперь она обращалась к Павлу, Чибис пытался следовать за спором, но мысль сбивалась, — эти прямые никогда не пересекутся. А я думаю — пересекутся. Потому что рано или поздно умрут все. И никакой справедливости не будет. Ни той, ни этой. Ч.Т.Д.
— Что? — отец переспросил беззащитно.
Инна усмехнулась:
— Что и требовалось доказать.
— Согла-асен, — Павел Александрович улыбнулся широко и ясно. — Смерть — вот то единственное, что примиряет всех и со всеми. А вы — умница! — он заключил неожиданно. — В логике вам не откажешь, среди молодых это — редкость.
Орест Георгиевич сник:
— Жаль, что вы не купили оперу, — теперь он говорил очень тихо, — судя по всему, там нашлись бы другие доказательства. Которые не заканчиваются смертью… Наоборот, только начинаются…
— Друзья мои, давайте прервемся, — Павел Александрович обнял отца за плечи, — я пришел, чтобы дать вам волю! В смысле сфотографировать. Сделаю фотографии и возьму с собой.
— Опять уезжаешь? — Орест Георгиевич поинтересовался вяло.
— Вилами, вилами по воде… Но предпочитаю встречать во всеоружии — каждый новый поворот пока еще длящейся, а значит, несправедливой жизни, — Павел подошел к окну и расправил плюшевые складки. — Вуаля! Фотографический павильон готов. Превосходная штука, — он достал из портфеля маленький фотоаппарат. — Отечественная разработка, так сказать, побочный продукт основной деятельности. Как твои эссенции, — он кивнул Оресту. — В общем, умеем, если захотим… О чем бишь я? Да… Память несовершенна, а это, — заглянул в глазок, приноравливаясь, — как ни крути, универсальный суррогат. Как сказал поэт: остановись мгновение! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо… А?
— А где вы проявляете? — спросил Чибис.
Павел Александрович взял торшер за ножку и дернул:
— Нет… Не пускает: слишком короткий шнур… Отдаю умельцам. В нашем ведомстве еще не перевелись… не перевелись… — он оставил торшер в покое и зажег верхний свет. — Ну, кто первый? Может быть, вы? — обратился к Инне. — Пусть в моей коллекции останется память о сегодняшней встрече.
Чибис думал, сейчас она откажется, но Инна кивнула.
— Вот и прекрасно! Занимайте место за креслом… Нет-нет, не так напряженно! Да, да… Руку на спинку… Орест! Ты только взгляни: какая красота… Божественно! А теперь замрите, — он навел глазок и щелкнул. — Вот. Это я называю: панацея. Все умрут, а ваша красота останется. На радость будущим поколениям…
Чибис не слушал, смотрел на отца. Отцовский затылок напрягся, словно что-то стянуло кожу. Две глубокие складки, похожие на скобки, прорезали углы рта. Верхняя губа приподнялась кривовато.
— Да… Чудо, просто чудо… — Павел Александрович сел в кресло и откинулся на спинку. — Ну, кто следующий? Может быть — ты? Или вместе? — он смотрел на отца и сына.
— Я? — Чибис сморгнул. — Я потом. Мне надо… — и выскользнул в прихожую. Прикрыв за собой дверь, сел на сундук.
Примостился, упираясь ногами в медное кольцо: «Сколько раз предлагал: взять и снести на помойку… Кому нужны старые пальто… Кто их будет носить…»
Раньше над сундуком была прибита вешалка, на которой висели старые пальто. В детстве Чибис любил под ними прятаться. Сидел, вдыхая запас слежалого ватина. Тишина закладывала уши. Он жмурился, стараясь не заплакать, а однажды случайно заснул. Отец звал его, ходил по комнатам, пока не догадался заглянуть под вешалку, где и обнаружил сына — красного и ошалелого от духоты. Чибис моргал сонными ресницами, не понимая, почему отец кричит… На следующий день явились какие-то рабочие, и вешалку перенесли на другую стенку.
Из комнаты доносились обрывки голосов. Он сидел, стараясь сосредоточиться. Какая-то мысль — манок, пластмассовая уточка — мелькала, не