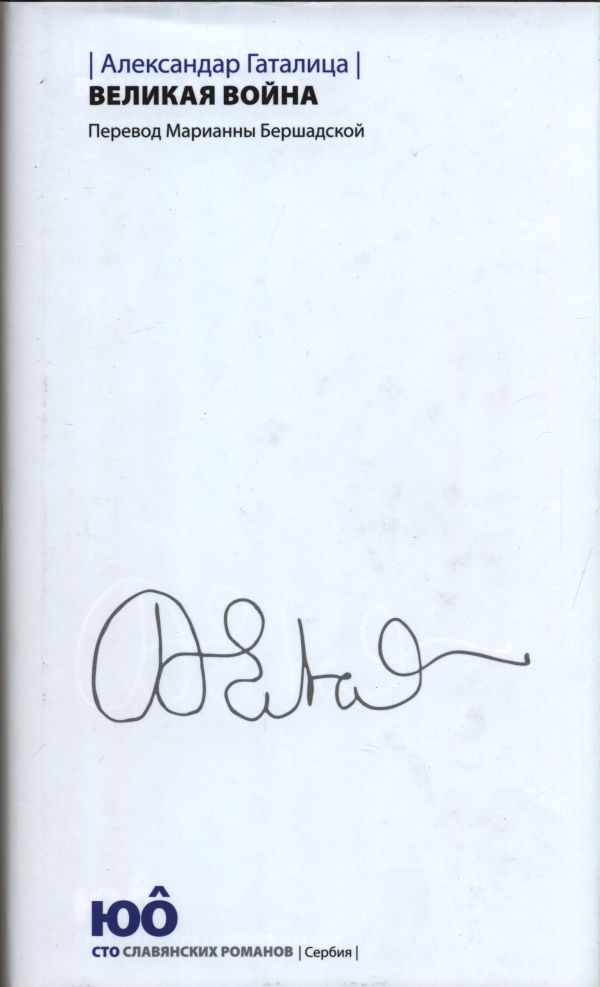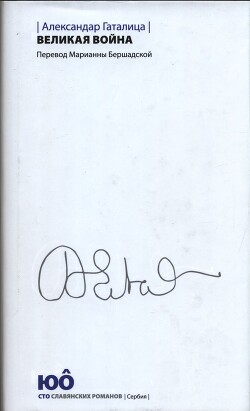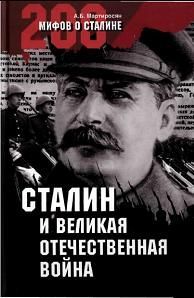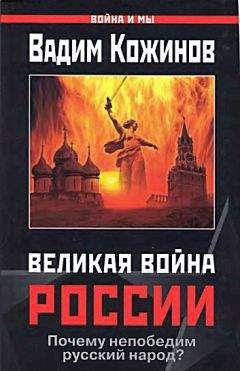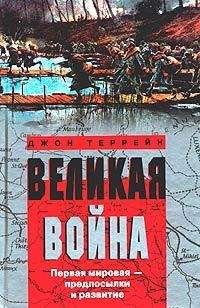бы смогли пережить атаку под Леонвилем. Тали смог бы стать известным хранителем Осеннего салона, Мориак разбогател бы на торговле винным уксусом, а Зборовски мог отправиться польским послом во Францию. А так?.. Так они были просто молчаливыми мертвецами!
В конце дня меня безусловно стал покидать разум. Да, я слышал, как они говорят. Отвечал им, даже начал с ними пререкаться, хотя еще осознавал, что все это — и свои, и их слова — произношу только я. Некоторых товарищей я полюбил, других — нет, а когда проснулся на третий день, то подтащил поближе к себе тех, кто стал мне особенно дорог. В этот третий день мы сели в кружок, но разговор долго не завязывался. В кармане одного из моих лучших друзей, интенданта Мориака, я нашел колоду карт. Я знал, что не следует этого делать, но ужасное одиночество заставило меня решиться на то, о чем я сейчас пишу со страхом и стыдом…
Этих четверых своих друзей я посадил в кружок и начал играть с ними в „лорум“. Я тасовал карты и раздавал их: одному, другому, третьему и себе. Их окоченевшие руки и пальцы я согнул так, чтобы они держали полученные карты, а потом началась игра. Я выбрасывал свою карту, а затем обходил всех игроков. Обмана не было, я себе не подыгрывал. Каждый сбрасывал по карте, и выигрывал наиболее везучий. Новая раздача, новый обход игроков, и игра… и за себя, и за своих друзей…
Наш Красный Крест нашел меня как раз посредине партии, которую я должен был выиграть. Меня отправили на лечение, сначала в Мец, а потом в Париж. Прошу вас считать все написанное абсолютной правдой и предпринять нужные меры, чтобы наши санитарные команды как можно быстрее находили выживших, чтобы они не считали напрасным искать среди сотен трупов хотя бы одного, кто еще дышит. Если бы меня заметили в первый день, я бы остался человеком, а теперь стал кем-то другим, и этот кто-то меня пугает и останется чужим навсегда».
Так писал Жермен Деспарбес, но в те дни вряд ли кто-нибудь это прочел. Если исходить из основного стратегического замысла, первой должна была потерпеть поражение Франция, и немцы в начале Великой войны сосредоточили основные силы на западе, вдоль французской и бельгийской границ, потом войска будут переброшены для разгрома России. Поскольку оборона восточной французской границы от Бельфора до Вердена считалась неосуществимой, немецкое верховное командование в духе старого — девятнадцатого века — «плана Шлиффена» большую часть своих сил сконцентрировала на правом крыле линии Аахен-Мец. Сперва все это не было похоже на войну, так как Германия требовала «только свободного прохода» через Бельгию. Поскольку она его не получила и поскольку Британия встала на сторону храброго бельгийского короля Альберта и его народа, немецкие армии Клюка и Бюлова пришли в движение. Они двигались по Бельгии, как косарь по нескошенному полю. Уже 24 августа 1914 года немецкая конница вошла в Брюссель, первый город в военном турне Ханса-Дитера Уйса, великого немецкого баритона.
Прославленный Уйс прибыл в Брюссель вместе со штабом Первой армии Клюка. Веселые кавалеристы стояли возле своих взмыленных коней и распевали «Die Wacht am Rhein» [6] и «Deutschland über alles» [7], а Уйсу все это казалось немного смешным. Однако ему и в голову не пришло громко засмеяться. На следующий день был назначен его концерт, и он помнил, сколько усилий потратил на то, чтобы найти среди бельгийских пленных концертмейстера, а потом отыскать в покинутом городе поцарапанный бехштейновский рояль. Настройщика на горизонте не было, а инструмент с открытой крышкой демонстрировал свои струны, как наготу… Одному старику требовалось три дня, чтобы добраться до Брюсселя, и концерт для офицеров высшего ранга мог состояться в ратуше только в конце недели. Маэстро Уйс сам подобрал репертуар. Он не собирался исполнять произведения тех композиторов, которые оказались в лагере противника, также отверг арии из «Фауста» Гуно или из любимого им «Бориса Годунова», ведь первая опера была на французском, а вторая на русском языке. Ему казалось, что лучше предпочесть Моцарта и добавить что-нибудь из Россини и Верди (итальянцы еще сохраняли нейтралитет). Точно в пять минут девятого концерт начался. Лишь одно мгновение он колебался, стоит ли снять форму и надеть концертный фрак. В уверенности, что будет выступать перед солдатами, решил остаться военным и удивился, заметив в зале много офицеров с дамами. Ему сказали, что командующие Первой и Второй армий Клюк и Бюлов не смогли прийти на концерт из-за успешных военных действий и отступления бельгийцев к Атлантическому побережью, а французов — к самым пригородам Парижа. Поэтому на первом концерте в «освобожденном» Брюсселе присутствовали их начальники штабов, большие почитатели искусства маэстро Уйса. Может быть, ему было немного обидно, что в зале нет главнокомандующих, однако он вышел на сцену и запел. Два-три раза он остановился и закашлялся, но для немецких офицеров, которым так не хватало оперы, это выступление было единственным удовольствием. После концерта они подходили к маэстро со слезами на глазах и говорили, что он принес в этот страшный ад кусочек цивилизации. В этот момент он узнал, кем оказались присутствующие дамы. Это были бельгийские и голландские проститутки, никогда не покидающие тонущий корабль и всегда счастливые, если их клиенты довольны. Они громко смеялись, восхваляя его на плохом немецком, и Уйсу это было неприятно. Не столько из-за этих «дам» в заплатанных платьях, сколько из-за своего исполнения. «Я пел как несыгранный оркестр… Боже, как долго я не выступал! С того самого концерта в „Дойче-опере“». С этими мыслями он покинул Брюссель и направился вслед за армией Клюка, как будто был интендантом, доставляющим оперные арии вместо запасов фасоли и жевательного табака. Немецкие генералы были ему за это благодарны и каждый раз выглядели счастливыми.
Однако не всем генералам были суждены минуты покоя. Австрийский генерал Оскар Потиорек после поражения под Цером перегруппировал разбитые части. Несколько дней на Сербском фронте царила неразбериха. Разгневанные сербы перешли взбаламученную Саву и на несколько дней заняли пространство между нею и Дунаем в южном Среме, сжигая посевы и поля по берегам. В Земуне стоял невыносимый смрад, а военные и штатские передвигались с платками на лицах. В течение этих дней произошли взлет и падение Тибора Вереша, того самого столичного журналиста, специализировавшегося на оскорбительных письмах.
Вереш прибыл в Земун весьма довольный собой, а теперь едва сдерживал злость. Его непослушная ручка с синими чернилами в утробе прибыла в Земун, злясь на