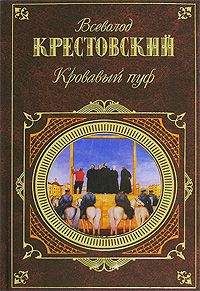— Я получил о вас наилучшую аттестацию от вашего командира, — заговорил старик, пыхтя из своей трубки. — Вас рекомендуют, как дельного и даровитого офицера, да кроме того, вы из университета, стало быть, человек не без образования… Скажите, какие ваши намерения, и вообще, что вы думали бы относительно дальнейшей вашей жизни?
— Служить, — ответил Хвалынцев.
Генерал на минуту задумался.
— Хотите служить у меня? — предложил он. — Мы, даст Бог, сойдемся поближе, я узнаю покороче ваши способности, и тогда… мне сдается, что вы с пользою могли бы послужить в этом Крае по крестьянскому делу. Что вы на это скажете?
Константин сказал, что служба этого рода всегда казалась ему очень симпатичною, что еще в университете, прежде вступления на военное поприще, он предполагал посвятить себя именно этой службе, в губернии, где находится его имение, и с этою целью изучал "Положение 19-го февраля" и внимательно следил за ходом крестьянского дела.
Умный и проницательный старик в дальнейшем разговоре очень тонко и незаметно сумел, так сказать, выщупать и проэкзаменовать Константина относительно его знакомства с крестьянским делом и, в конце концов, остался доволен полученными результатами.
— Я зову вас к себе именно для крестьянского дела, — заметил он, подымаясь с места, причем, конечно, поднялся и Хвалынцев. — В здешнем Крае это теперь самое настоятельное и святое дело, для которого мне прежде всего нужны честные люди. Но, — продолжал генерал, — прежде чем приступить вам к работе, я хочу, чтобы вы вполне познакомились с моим взглядом на условия жизни этого края. Помните, что Северо-Западный край — Россия, а проживающие в нем враждебные России поляки и ополяченные сотрудники польской справы суть изменники и мятежники, без всяких облегчающих обстоятельств. Мои меры круты, я знаю это, но все мои меры истекают из одного основного положения: очистить эту русскую землю от всего польского наноса, истребить, искоренить все, что польская интеллигенция, русской жизни враждебная, исподволь успела вдавить крамольного в русскую почву и которая в течение пяти веков терзала здесь Русскую землю. Вы должны твердо помнить и глубоко сознавать, что здесь народ — русский, шляхетство — ополяченное, а каждый вновь воздвигаемый костел — новое знамя для мятежной борьбы против русской жизни. Таков окончательный вывод исследований минувших судеб и настоящего положения западной России. И когда, с изгнанием полонизма, ополяченный Западный край снова станет русским, тогда немыслимо будет никакое восстание и в Польше; тогда исчезнут и иноземные надежды иметь в поляках постоянную фистулу против силы России.[274]
Так как Хвалынцев был привезен в Вильну только в том, что было на нем надето, то ему в тот же день пришлось возвратиться в Гродну, чтобы взять там свое белье и кое-какие необходимые вещи, доставленные к нему из эскадрона еще во время лечения его в госпитале.
Торопясь захватить пассажирский поезд, он из дворца поехал прямо на железную дорогу.
Светло и мирно было теперь у него на душе, точно бы с него разом сняли тяжелый гнет, точно бы почувствовал он в себе прилив новых сил, новой энергии и нравственной бодрости. С светлым упованием и верой смотрел он на будущее, на честный и серьезный труд, который предстоит ему вскоре. Словно из бронзы отлитый, вставал перед ним типичный и характерный образ старика, железного деспота, пред которым в зале трепетало столько людей, и доброго, простого человека, который в своем кабинете успел чутко подметить честное сердце в молодом человеке, разглядеть на что он годен, ободрить, поднять его нравственно своим доверием и сразу приурочить к тому делу, где он мог принести самую существенную пользу своей стране и народу. С признательным, горячим чувством в душе, Константин дал самому себе обет посвятить всю жизнь, все силы свои этому благому делу и честно идти твердым, неуклонным путем к той цели, которую показал ему прозорливый и разумный опыт сильного умом и волей "железного человека".
Наскоро пообедав в столовой дебаркадера, он взял билет и поспешил заранее занять себе в вагоне место поудобнее. В том отделении, дверцу которого растворил пред ним кондуктор, сидел уже какой-то пассажир. Хвалынцев поместился напротив и искоса оглядел его таким взглядом, каким всегда оглядывают входящие в вагон своего случайного соседа. Это был тучный, отменно упитанный человек несомненно российского, черноземного пошиба, представитель тех благосклонных и мирных захолустий, от которых, по выражению гоголевского городничего, "хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь". Что-то смутно знакомое, где-то виденное, когда-то встреченное сказалось Хвалынцеву в лице и во всей фигуре упитанного соотечественника. "Кто бы такой это мог быть?" подумалось ему в то время как пытливый взгляд искоса еще раз скользнул по лицу соседа? — "Ба!.. да ведь это славнобубенский привилегированный и празднопроживающий остряк и философ Подхалютин!" вдруг домекнулся он, ясно припомнив себе данного субъекта с последним брошенным на него взглядом. Константин уже хотел было сказать ему "здравствуйте!" но вовремя вспомнил, что представлены они друг другу не были а только встречались кое-когда и кое-где в славнобубенском обществе. Поэтому, вместо «здравствуйте», он прислонился поудобнее в угол своего эластического сиденья и развернул пред собою нумер какой-то петербургской газеты, купленный на станции.
Уже пробил второй звонок, когда перед дверцею вагона послышался снаружи чей-то хрипло-басистый голос:
— Кондуктор!.. Эй! Что вы, дьяволы, оглохли здесь, что ли? Или, полячье, по-русски не понимаете?.. Я вас выучу, р-рака-лии!.. Отводи мне место в вагоне, где попросторнее!
Кондуктор раскрыл дверцу и между Хвалынцевым и его vis-a-vis неуклюже полезла в вагон чья-то кудластая, бородатая, несуразная и высокая фигура, с поднятым до ушей воротником толстого пальто, в надвинутой на глаза войлочной шляпе, с саквояжем, дубиной, подушкой, шляпным футляром и волочащимся пледом. Фигура наконец влезла, ворча себе под нос какие-то нелестные эпитеты, невесть к кому обращенные, и повернувшись задом к своим соседям, с кряхтеньем и сапом стала возиться в другом конце отделения, размещая и прилаживая свои дорожные вещи.
Хвалынцев, не обращая внимания на неуклюжую возню нового пассажира, продолжал читать свою газету, как вдруг:
— Ба-ба, ба!.. Знакомые все лица! — раздался около него приятно удивленный голос, и прежде чем успел он опомниться, его уже облапили чьи-то бесцеремонные объятия, а уста, обрамленные мохнатою растительностью, напечатлели на щеке его мокрый поцелуй. От этих уст Константина обдало спиртуозным букетом, и едва успел он несколько отстраниться да поднять глаза, как вдруг, к необычайному изумлению своему, воочию узрел пред собою Ардальона Полоярова.
— Не ожидали-с?.. Признаюсь, оно точно!.. Ха, ха, ха!.. И сам я не ожидал, ей-Богу!.. Здравствуйте, батенька! — говорил он своим обычным бесцеремонным тоном по-видимому вовсе не замечая того холодно-удивленного взгляда, которым уставился на него Хвалынцев. Быть может, впрочем, к такому настроению располагало Ардальона Михайловича то состояние "легкого подпития", в каком обретался он в данную минуту. — Астафий Егорыч! Батенька! Голубчик! А вы-то здесь какими судьбами? — отвернувшись на минуту от Хвалынцева, говорил меж тем Ардальон Подхалютину, растопыря пред ним руки и готовясь точно так же заключить и его в свои непрошеные объятья.
— Извините… С кем имею честь? — как-то затруднительно поеживаясь, промямлил ему Подхалютин.
— Господи!.. Да неужели не признали?.. Ардальона-то Полоярова?.. Батенька!.. Это ведь я самый!.. В Славнобубенске-то мы с вами хоть и не близко были знакомы — так только, встречались кое-где, но я помню как вы всех этих тамошних прохвостов отлично чехвостили, и я всегда вам в том сочувствовал и от всей души за то вам в ножки кланяюсь и уважаю!
Эта несуразная, грубая лесть не осталась однако без воздействия на податливую натуру острослова, который впрочем, не зная близко господина Полоярова, мог относиться к нему вполне безразлично, и потому подкупленный его «сочувствием», "уважением" и "поклоном в ножки", с радушной улыбкой, словно бы и в самом деле узнав в его лице своего хорошего старого знакомца, протянул ему руку.
Полояров, которому такое пожатие, что называется, "пошло в повадку", не замедлил тотчас же подсесть к Подхалютину рядом.
— Ах, батенька, — заговорил он даже в несколько умиленном тоне, — просто, не поверите вы, как то есть это приятно здесь, в этом крае, так сказать, просто на чужбине, среди этого, знаете, подлого полячья, вдруг встретиться с настоящим русским человеком! Да еще со старым знакомым, с земляком! Ведь, это то есть, просто как родного встретишь!