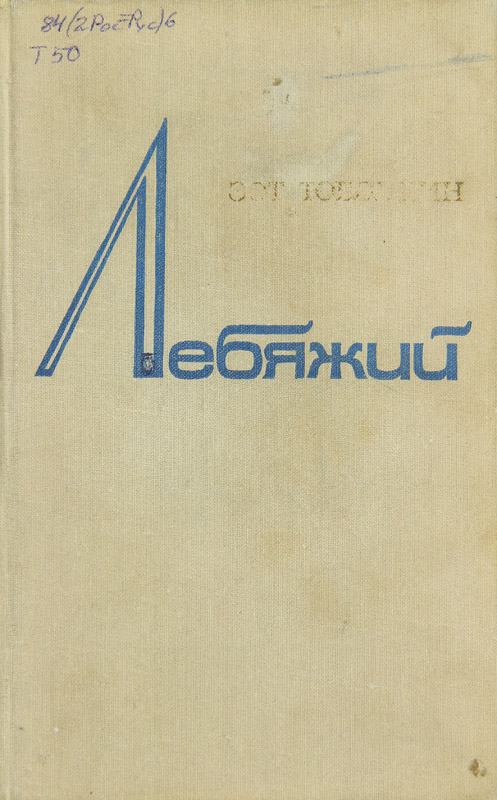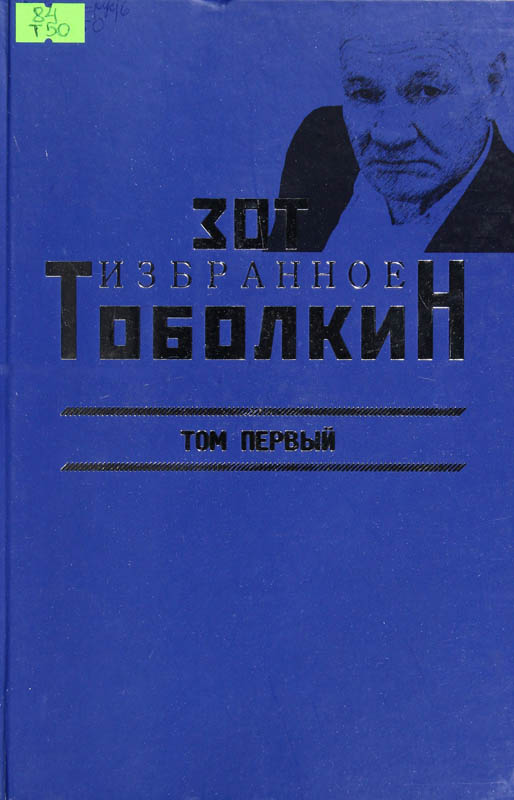Степа побежал к людям, повторяя: – Где моя Наденька?
– Ее не стало, – сказал какой-то мальчик. По голосу Степа определил, что это Витька Водилов, которого он ни разу в жизни не видел. – И собачки не стало, и мамы не стало...
– Молчи! – велел ему Водилов, испытывавший эгоистическую отцовскую радость оттого, что Витька жив и что теперь, чего бы это ни стоило, он будет жить и будет здоров и счастлив. Он сменит отца, он продолжит род Водиловых. Но, прежде чем уйти, Водилов должен в том убедиться. «Я доживу! – поклялся он себе и тем еще не родившимся внукам. – Я доживу!»
– Где моя Наденька? – все еще спрашивал Степа, и никто, кроме Витьки, не посмел ему ответить.
– Идем к ней, – сказал Станеев, и женщина в темном халате повела их в мертвецкую.
– Разве она опять стала? Разве Наденька есть? – допытывался у отца Витька и теребил его нетерпеливыми слабыми ручонками.
– Молчи, глупыш! – поспешно уводя из больницы сына, говорил Водилов. – Ты задаешь слишком трудные вопросы.
Наденька лежала у самого выхода, рядом с двумя буровиками, погибшими во время аварии на Вагане. И Степа увидел ее и упал перед ней на колени. Мир снова открылся ему, но в горький и страшный час.
И Степа увидел проломленный висок ребенка и кровь на голубой ленточке, которую этим утром Наденька вплела в золотистую косу. Он видел свежее, чистое, совсем живое личико, слегка прищуренный левый глаз, руку, упавшую с носилок, он видел ногу, слегка подогнутую, и вторую ногу без сапога. Вишневое пальтишко в орнаменте было в грязи и без верхней пуговицы, и Степа удивился, что его дочь, такая аккуратистка, вышла на люди в неопрятном пальто. Он все это видел, потому что прозрел. Он просил у судьбы милости прозреть на минуту – и получил эту великую, теперь совсем ненужную милость. Может, время пришло – прозреть, а может, это было следствием потрясения. Он видел...
Станеев держал в своих ладонях маленькую, с заусеницами на двух ногтях Наденькину ручонку, которая недавно еще касалась его лица, ворошила волосы и бороду, перебирал тонкие, вдруг ставшие безразличными к нему пальчики. Он думал о том, что надо как-то поддержать Степу, спросить, что с Симой, и взять на себя хоть какую-то часть беды, свалившейся на них, но ни слов утешения, ни сил у него не было. Их беда была и его бедой. И его беду никто не разделит. Да и кто поверит, что чужого ребенка можно любить как своего кровного? А он любил, и Наденька об этом знала. «Говорила, подожди... я вырасту... Маленькая моя, светлая!» – повторял он, но слова эти, как листья, сорвавшиеся с дерева, уже ничего не добавляли к его горю и жили сами по себе. Да он и не сознавал, что произносит их, и стоял подле Наденьки, потеряв представление о времени.
Уже кончилась операция, и санитарка вывезла на каталке Юльку, уже прошла к себе в кабинет смертельно уставшая бледная Раиса мимо Юльки, мимо Ганина, услыхав шелестящий голос девушки:
– Я не виновата, папка... не виновата...
Уже раздвинуло тучи солнце, решив погреть, порадовать людей и серую, запорошенную снегом землю. Все изменилось в природе, все ожило. А Наденька была мертва. А Юлька что-то шептала отцу, и Ганин, вцепившись в каталку, слушал ее и не понимал. Беда свела всех этих людей вместе, но каждый переживал ее в одиночку.
– Ей нужно отдохнуть, Андрей Андреич, – сказала Раиса. Она успела переодеться, осмотреть Симу и теперь искала глазами Станеева. – Ей нужен покой.
– ...не виновата, – снова прошелестела Юлька. И только теперь Ганин заметил, что одна нога ее, легкая, стройная Юлькина нога, почему-то стала короче. Там, где должна быть ступня и лодыжка, была пустота. И пустоту эту не в силах заполнить даже Ганин, всесильный, могущественный и все умеющий человек. Закусив до немоты в деснах зубы, Ганин закрыл глаза и слабо, чуть слышно застонал, откинулся. На Юлькины пожелтевшие щеки упали не то слезы его, не то пот, крупными каплями выступивший на лбу.
– Папка, папка! – позвала его Юлька. – Мне не больно... мне страшно.
И Ганин не выдержал, всхлипнул. Но вокруг были люди: санитары, сестры, эта женщина, врач... как ее? Имя забылось... Прекрасная, милая женщина... Как же ее? Ах, да не все ли равно? Главное, что эти люди, кто бы они ни были, не должны видеть Ганина жалким, плачущим. Все свои невзгоды он переносил стойко и никогда никому не жаловался, не искал воротника, в который мог бы выплакаться... Перенесет и эту... Уже ничего не исправишь, не изменишь, и нужно держать себя в руках. Юлька, девочка моя дорогая!
– Я прошу вас, Андрей Андреич, – сквозь боль, от которой он отупел и оглох, прорезался сочувственный голос Раисы. – Приходите завтра. Завтра в любое время.
– Я приду завтра, Юленька, – машинально повторил Ганин и, высоко вскинув голову, четко и прямо вышагивая, пошел по коридору. А пол колыхался под ним, а стены то наваливались вдруг на самые плечи, то опрокидывались обратно. И куда-то исчезла огромная входная дверь. Куда же она исчезла? Она слева была... Нет, кажется, справа...
Раиса, догнав его, взяла под руку и вывела к машине. Толя, ждавший у подъезда, поспешно отворил дверцу. Ганин растерянно остановился, совершенно не понимая, зачем эту дверцу открыли.
– Садитесь, Андрей Андреич, – сказала Раиса и, зачерпнув горстью снегу, приложила к его влажному лбу.
«Снег-то какой горячий!» – отметил Ганин и, вежливо отстранив Раису, спросил у шофера: