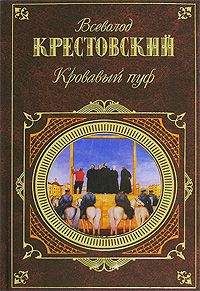— Так что ж из этого? — вопросительно поднял на него Бейгуш свои взоры.
— Перенесите вы тот же самый известный физиологический закон этой борьбы с естественно-исторической на историко-политическую почву — и наша тяжба, наша с вами борьба станет для вас понятна! Каждый живой организм должен себе с бою завоевывать право на свое существование, и процесс его естественного развития и роста необходимо совершается на счет других, менее сильных организмов, часто одного и того же рода. Мы с вами — это два зерна, брошенные в общую почву, слишком близко одно к другому. И тому, и этому надо жить, но чтобы жить, надо пускать в почву глубже и шире свои корни, а вместе нам тесно, мы мешаем друг другу, один из нас затрудняет естественный рост другого. Отсюда невольная борьба — борьба за существование, где играют роль не одни политические вопросы, а все, решительно все жизненные условия ваши и наши. Чья возьмет? Это вопрос внутренней силы зерна. В ком более естественных сил, более здоровых жизненных зачатков, тот скорее вынесет борьбу и останется победителем. Если не виноваты вы, когда вам хочется жить так, как вам кажется лучше, то виноваты ли мы, если, при таком же точно стремлении, в нашем зерне более живых соков и сил чем в вашем? Что ж тут делать!.. По закону физиологии остается умереть, но разве и в самом деле смерть такое несчастье?
* * *
Бейгуш не был расстрелян. Смерть от скоротечной чахотки застала его на госпитальной койке. Жена его, узнавшая об этой смерти совершенно случайно, из корреспонденции одной газеты, снова очутилась "вдовушкой Сусанной". Беспристрастная истина однако обязывает нас сказать, что горе ее по исчезнувшем муже было хотя и сильно, но не продолжительно. В начале 1863 года она как-то случайно встретилась где-то со своим восточным кузеном, и Малгоржан, возобновивший с ней прерванное знакомство, вскоре успел снова покорить себе ее слабое сердце. Сусанна утешилась. Но Малгоржан, проученный опытом, стал если не умнее, то гораздо практичнее прежнего. Он успел убедить Сусанну, чтоб она отдала ему в распоряжение половину своего капитала, который будет употреблен на очень выгодное и самое верное предприятие. Сусанна послушалась и вручила ему двадцать тысяч. На эти деньги Малгоржан в одной из бойких улиц открыл гласную кассу ссуд, обзавелся прекрасной квартирой, прекрасной мебелью и обстановкой, среди которой и поместился вместе с Сусанной, а в довершение всех своих операций, блаженств и удовольствий стал иногда пописывать обличительные статейки в одной из газет мелкой петербургской прессы, на последних страницах которой в то же время неизменно красовалось видное объявление о его гласной кассе.
XXIII. Последний из Могикан
Оскару Авейде так и не удалось уговорить Константина Калиновского снять с себя диктатуру и примириться с Варшавским ржондом. Чувствуя, что пребывание в Вильне с каждым днем становится все рискованнее, Авейде под конец рад уже был согласиться на все условия диктатора, лишь бы только убраться поскорее из-под глаз Муравьева. Но бегство под сень Варшавы не удалось ему: при отъезде, Авейде был арестован на дебаркадере.
Меж тем диктатор Литвы до времени успевал еще кое-как стушевывать себя перед полицией, беспрестанно меняя в Вильне свои фамилии и квартиры. Из «подвластных» ему воеводств и поветов до него доходили самые плачевные донесения и вести: шайки то и дело бегали за Неман, с той единственной целью, чтобы пообедать после нескольких дней голодания; на предписание добыть оружие "для освежения", повятовый коммиссар доносил, что мог достать только три ружья, да и то с величайшим трудом; на предписание собирать новые подати для поддержки восстания, квестиры отвечали, что у помещиков опустели кошельки после Муравьевского десятипроцентного сбора. В кассе литовского ржонда, считавшей у себя рубли сотнями тысяч, оставалось только шесть тысяч всего-навсего.[275] При Моловидах уже давно была рассеяна последняя банда белых, а довудцы красных требовали денег на продовольствие. Калиновский приходил в отчаяние. Учрежденная Муравьевым сельская стража, которая в самом начале казалась диктатору весьма подручной вещью, если только удастся поднять крестьян на панов и москалей, оказалась теперь гибельной для всех его начинаний. Доставка припасов, рассылка доверенных лиц, сборы, движение шаек, словом, вся революционная деятельность стала почти невозможной, благодаря сельской страже: повсюду — сущий, зоркий и подозрительный глаз озлобленного хлопа следил за малейшим проявлением этой деятельности и наконец довел-таки панов до сознания, что не русские, а поляки составляют «наядз» в Западном крае.
Поздней осенью 1863 года шаек уже не существовало, только кое-какие жалкие остатки, по несколько человек, бродили еще в жмудских и самогитских лесах, грабя и воруя у одиноких лесных «кутников», ради дневного пропитания. Теперь уже не нужно было посылать на поиски за ними ни военных отрядов, ни даже летучих команд. Эти последние были заменены сборами охотников из крестьян, с придачей им по нескольку солдат или казаков. Действия подобных охотников против бродяг обратились положительно в нечто вроде облав на дикого зверя. А между тем в бумагах, которые удавалось захватывать у таких повстанцев, все еще попадались заготовленные рапорты и реляции фантастических довудцев о новых победах над русскими войсками, об отличном революционном настроении народа, и все это не иначе как за нумером и печатью, и все это, по старой памяти, предназначалось для заграничной прессы, ради мороченья европейской публики. Зимой были пойманы последние два довудца, ксендз Мацкевич (Робак) и Червинский, которые за множество неслыханных изуверств, совершенных ими, поплатились виселицей.
Калиновский окончательно потерял голову. Постепенно лишившись всех своих помощников, он все-таки не мог оставить Вильны и продолжал считать ее стратегическим ключом своей диктаторской позиции. Решаясь, что называется, идти напролом, добиваться немедленно нового восстания во что бы то ни стало, вопреки очевидной действительности и здравому смыслу, он силился возобновить организацию по губерниям и завести с ней хоть какие-нибудь сношения. Это было теперь уже не дело, а скорее одна только безумная мечта мономана, фанатика революционной идеи. И тем не менее, нашлось-таки несколько женщин и ксендзов, которые не задумались подать диктатору руку и возмечтать вместе с ним о возрождении и продлении восстания. Нашлись и обязательные евреи, чтобы за деньги служить ему почтальонами и, с помощью своей собственной еврейской послуги, предохранять его от опасности, всячески пронюхивая и заблаговременно извещая о ней диктатора. Но увы! шесть тысяч, остававшиеся еще в распоряжении Калиновского, скоро совсем уже иссякли, благодаря еврейским послугам, и он остался, наконец, один-одинешенек, без друзей и евреев, без гроша денег и без куска хлеба со своим лишь фантастическим титулом диктатора Литвы да все с одной и той же неугомонной и горячечной идеей… Напоследок, один только ксендз-бернардин да две добрые патриотки были единственными личностями в Вильне, которые знали кое-что о существовании Калиновского, да и то потому лишь, что в одно из трех мест поочередно являлся он для ночлега.
Вся польская организация была уже раскрыта, весь заговор распутан, вся деятельность диктатора Литвы обнаружилась для правительства самым ясным и положительным образом, а меж тем сам диктатор все-таки продолжал скрываться, словно бы для этого правительства он был покрыт сказочной шапкой-невидимкой. Его выдали сами же поляки, и, что замечательнее всего, выдали в то уже время, когда он был нищ, убог и совершенно безвреден. Из губерний неоднократно приходили от них указания на квартиры, куда он являлся для приема донесений и отдачи распоряжений своих; но пока в его кармане оставался последний рубль, евреи не переставали служить ему и предупредительно спасать от угрожавшего ареста. С последним рублем прекратилась и их последняя послуга. Тогда-то один из членов подпольной губернской организации, знавший у кого именно скрывается в Вильне диктатор, указал на него следственной комиссии, и таким образом, в конце января 1864 года, Калиновский был арестован. Последний из могикан, он представлял собою последнее знамя мятежа. Во время его кипучей деятельности и даже после ареста, между низменным виленским населением, равно как и на Жмуди, долгое время бродили темные слухи, что где-то, мол, в Вильне проживает "Круль Литвы", который хочет "адхилиться от поляков" и завести "свое властне крулевство".
7-го марта 1864 года Вильна была свидетельницей последней политической казни. Утром, при грохоте барабанов под эскортом жандармов и пехотного конвоя, по городу везли на виселицу осужденного. Он был бледен, но совершенно спокоен.