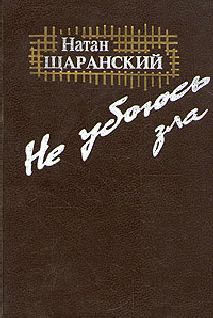Не знаю, чем это объяснить, но игра в нелегальную связь с волей все больше захватывала меня. Если в первый раз я писал Бороде, почти не сомневаясь в том, что письмо попадет в КГБ, то с каждым разом воз-буждение от мысли: "а вдруг?!" -- нарастало, и возможность установле-ния связи с волей уже не казалась такой нереальной.
Наконец вертухай взял записку. Произошло это утром, двадцать де-вятого апреля. Старик открыл дверь и внес большое ведро.
-- Мусор есть?
Его партнер (по инструкции дверь камеры открывается лишь в при-сутствии как минимум двух контролеров -- обычно дежурного по кори-дору и корпусного) был далеко, я, как и договорились, лежал, отвернув-шись к стене, и читал книгу. Фима высыпал в ведро мусор, протянул ру-ку за туалетной бумагой, и одновременно передал письмо. Может, это все же не провокация?
Ждать ответа придется очень долго. Сейчас у вертухая два дня вы-ходных. Кроме того, из-за майских праздников может произойти пере-становка в расписании. Двадцать девятого меня на допрос не вызывают. Тридцатого, первого и второго -- выходные и праздники, мертвые дни в тюрьме.
Воображение между тем разыгрывается. Я представляю себе, как Бо-рода получает письмо, связывается с моей семьей, срочно созывает дру-зей, через иностранцев пересылает его Наташе в Израиль. Пресс-кон-ференции, заявления, протесты... Так ли все будет? И вообще -- пере-даст ли вертухай записку? Если да, то должен принести ответ. Я стара-юсь успокоиться и скрыть свое нетерпение, играя с сокамерником в шахматы и шашки.
С Фимой же происходит что-то странное. Довольно быстро успокоив-шись после передачи записки и вроде бы совсем забыв о ней, он вдруг опять -после долгого перерыва -- начинает предаваться воспоминани-ям о своих амурных успехах. Но тридцатого апреля к полудню его на-строение резко меняется. Он взволнованно мечется по камере, возбуж-дение его все нарастает. Затем он сообщает мне, что решил сознаться в существовании еще одного тайника с золотыми монетами на балконе его квартиры. Это должно, прежде всего, снять со Шнейваса последние по-дозрения в "несотрудничестве" с КГБ -ведь его дебет и кредит все еще не сходятся. Во-вторых, он таким образом сумеет съездить домой, на вскрытие тайника, и увидит жену и детей, что для него очень важно.
Шнейвас садится и пишет заявление на имя своего следователя. Он пытается передать его через корпусного, но тот отказывается принять: все заявления подаются по утрам, и к тому же сегодня суббота, выход-ной день.
-- Подадите после праздников, третьего мая, -- говорит корпусной. Фима вызывает дежурного офицера, который замещает отсутствую-щего начальника тюрьмы, объясняет, что это -- в интересах следствия, требует, чтобы довели до сведения... Он волнуется, умоляет, почти кричит. Фимино и без того повышенное давление резко подскакивает: он багровеет, держится за сердце. Приходит медсестра, дает ему лекарства. Заявление Шнейваса в конце концов забирают, а через несколько часов уводят его на допрос. Возвращается он усталый, но, похоже, умиротво-ренный.
-- Сразу после праздников повезут домой, на изъятие, -- сообщает он мне.
В течение последующих трех дней контакта между Фимой и нашим вертухаем не происходит. Хотя тот и появился, но, к сожалению, в дру-гом конце коридора -- мы обнаруживаем это, когда идем на прогулку.
-- Наверное, заменяет кого-то из-за праздников. Ничего, скоро вер-нется на свой пост, -- говорит Фима.
Третьего мая, сразу после завтрака -- раньше обычного -- надзира-тель заглядывает в камеру и направляет на Шнейваса ключ:
-- На вызов!
-- Все ясно, еду домой, -- радуется Фима и быстро одевается: кос-тюм, белая рубашка, ботинки. (В этом, кстати, еще одно отличие след-ственного изолятора от обычной тюрьмы: пока тебя не осудили, ты мо-жешь ходить в гражданской одежде. Конечно, без галстука, ремня и шнурков -- все это отбирается во избежание попыток самоубийства). Сосед прощается со мной и уходит.
Примерно через два часа пришел корпусной и сказал:
-- Где здесь вещи Шнейваса? Отдайте их контролеру.
И все. Больше я Фиму не встречал. И, наверное, уже не встречу. И так и не узнаю, была ли вся эта история провокацией. А если да, то уча-ствовал ли в ней и Фима или только один вертухай. И чего испугался Шнейвас тридцатого апреля, зачем ему так срочно понадобилось встре-титься со следователем, И почему надо было в такой спешке отсаживать его от меня, даже не дав самому забрать свои вещи... Сколько подобных вопросов накопилось у меня за годы заключения после встреч с самыми разными людьми! Как много было среди них запутавшихся, темных личностей и как мало таких, о ком я мог твердо сказать: он друг, он свой, -- или наоборот: он враг. Со временем -- к счастью, довольно ско-ро -- я понял: лучше вообще не пытаться искать ответы на такие вопро-сы, а просто быть самим собой, не зависеть от обстоятельств, поверять свои поступки совестью и рассудком, а жизнь в свое время расставит все по местам.
Но сейчас я был заинтригован, в возбуждении ходил по камере, пе-ребирая различные варианты и находя такие объяснения, которые под-сказывала мне надежда. Нас так внезапно и поспешно разбросали -- мо-жет, это результат каких-то внешних событий, неожиданных для КГБ? А если так, то разве не естественно предположить, что причиной тому -- заявление моих друзей, сделанное после получения письма? И теперь КГБ пытается выяснить, как произошла утечка информации, и начав Допрашивать об этом Шнейваса, они уже не могут вернуть его ко мне в камеру...
Возможно, такая примитивная логика, такие грубые натяжки в рас-суждениях кого-то и удивят, но только не бывшего зека. Позднее я много раз замечал, как люди в условиях изоляции начинают верить во все, во что им хочется верить, даже в самые фантастические вымыслы, и как умело играет на этом КГБ.
Итак, возможность того, что моя записка дошла, стала представлять-ся вполне реальной. Правда, тут же возникла мысль, которая подейст-вовала как ушат холодной воды: как же я теперь получу ответ -- вертухай-то ко мне не подходит, он имеет дело только со Шнейвасом? Но я успокаивал себя: ничего, через несколько дней попробую закинуть удочку, если он действительно передал Бороде письмо, то, может, и клюнет...
Вдруг я обнаруживаю, что Фима забыл в камере свою коробку с саха-ром. Зову надзирателя, прошу передать сахар Шнейвасу. Тот долго раз-мышляет и наконец докладывает корпусному. Корпусной -- дежурному офицеру. Этот принимает соломоново решение. Если Шнейвас запро-сит, они ему сахар передадут. Все ясно: боятся, что это -- условный знак. Я и в этом их опасении вижу хороший признак: раз боятся связи между нами, значит, им есть в чем подозревать Фиму. Но вдруг тот вел двойную игру, помогая и КГБ и мне, "сгорел" на вертухае и вышел у них из доверия? Тогда моя записка сейчас здесь, у них. Утешаю себя тем, что ничего интересного для себя они в ней не найдут, и тут же на-чинаю искать противоположные доводы -- в пользу того, что записка все же ушла на волю.
Все эти скачки фантазии неожиданно прерываются. Открывается кормушка.
-- На вызов!
Что такое? Уже пятый час, скоро ужин, а в следственном отделе -- конец рабочего дня. Так поздно меня до сих пор никогда не вызывали. Да и что это за допрос на тридцать-сорок минут?
За время следствия меня вызывали на допросы сто десять раз. Неко-торые из них продолжались по десять-двенадцать часов. Какие-то я за-помнил чуть ли не слово в слово, другие -- только в общих чертах, были и такие, которые вообще не оставили в памяти никакого следа.
Этот допрос был, наверное, самым коротким -- я вернулся в камеру часа через два, и я его запомнил, кажется, наизусть. Потом я не раз ана-лизировал его буквально по фразам.
...По дороге в следственный корпус я медленно читаю свою молитву, обычно это помогает сосредоточиться. Но на этот раз вхожу в кабинет и сажусь на свое место за маленьким столом в углу, метрах в пяти от сле-дователя, едва сдерживая нетерпение: сейчас я узнаю, что же произош-ло с моей запиской.
Черныш берет со стола конверт, достает оттуда какую-то бумагу и медленно идет ко мне. Записка? Ответ?
-- Вам предъявляется для ознакомления документ, находящийся в распоряжении следствия. Что вы можете сообщить по этому поводу?
Он кладет передо мной листок бумаги, а сам садится напротив и вни-мательно следит за моей реакцией. Я опускаю глаза. Сразу узнаю по-черк Инны -- жены Виталия Рубина. Это письмо, адресованное мне: "Дорогой Толя...", дальше -- несколько теплых слов о Наташе, выражение надежды на нашу с ней скорую встречу; Инна сообщает, что посы-лает мне одновременно с этим письмом вырезку из какой-то газеты -- кажется, из "Маарива", -- где говорится обо мне. И все. Нет, еще по-стскриптум: вопросы, перечисленные на обороте, хорошо бы передать на семинар Марка Азбеля ученым-отказникам, добивающимся выезда из СССР. Такая анкета может помочь им заранее подыскать в Израиле работу по специальности.