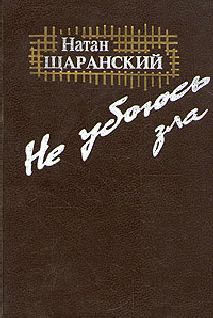Переворачиваю листок. Несколько вопросов, отпечатанных на ма-шинке: фамилия, имя, отчество, возраст. Образование -- что и когда кончал. Какие курсы повышения квалификации или переподготовки проходил. Когда и где работал, чем занимался. Какие научные труды -- статьи, книги -- написал, где они были опубликованы. Какими языками владеет. Какой областью науки хотел бы заниматься и в какого рода ра-боте обладает наибольшим опытом -исследовательской, конструктор-ской или практической...
Вот, наконец-то, началось главное! -- примерно такой была моя пер-вая, разумеется, невысказанная реакция. С самого начала следствия, отвечая на вопросы о встречах с западными корреспондентами и пол-итиками, о документах еврейского движения и Хельсинкской группы, о демонстрациях и пресс-конференциях, я продолжал в слепой наивности убеждать себя: нет, вся эта открытая деятельность не может стать осно-ванием для обвинения в измене Родине. КГБ лишь отвлекает мое вни-мание от главного обвинения, которое фабрикуется в большой тайне и скорее всего будет основано на какой-то липе.
Я помнил наиболее зловещую инсинуацию в "Известиях": Лернер, мол, получил через Рубина задание от ЦРУ собрать информацию о сек-ретных предприятиях в СССР и поручил это выполнить мне. "Как они собираются доказывать подобную чушь?" -- недоумевали мы все после появления статьи. Тот же вопрос я задавал себе в Лефортово практиче-ски каждый день. Сейчас передо мной лежал невинный листок, который -- я сразу это понял -- мог оказаться верхушкой айсберга, синтезиро-ванного в недрах КГБ. Вопросник Инны выглядел вполне безобидно. Приехав в Израиль, я проверил: да, это вопросы стандартной анкеты, которую заполняют в Министерстве абсорбции новые репатрианты, ищущие работу.
Адресованное мне письмо было, безусловно, написано Инной -- я хо-рошо знал ее почерк, -- однако я видел его впервые. Может, они нашли его среди моих бумаг? Я, наверное, получил с оказией очередную пор-цию писем, торопился, сунул его куда-нибудь в стол, да так и забыл прочесть. Сомнительно, конечно, но...
Что им ответить? Что это -- фальшивка? А если письмо подлинное, тогда я только помогу им продемонстрировать, что в нашей деятельно-сти есть что скрывать. Сказать, что я его получил и прекрасно помню? Но кто знает, что за сюрпризы готовят они в связи с этим вполне невин-ным посланием?
-- Где оно было найдено? -- спрашиваю я у Черныша.
-- Узнаете со временем.
-- Но вы до сих пор не предъявили мне список изъятых у меня на
квартире вещей и документов. И, между прочим, по закону обязаны бы-ли проводить обыск в моем присутствии, -- тяну я время, пытаясь за-ставить его проговориться: было ли письмо Инны среди моих вещей. Не из этого, конечно, ничего не выходит.
-- Не волнуйтесь, Анатолий Борисович, сейчас составляется опись всего изъятого у вас в Москве и Истре, и вскоре вы будете с ней озна-комлены. Но, надо думать, вы сами лучше других знаете, какие доку-менты писали и какие письма получали, -- и Черныш снисходительно, слегка иронически улыбается, но в то же время -- я это вижу -- нетер-пеливо ждет ответа. -- Так что же? -торопит он меня.
Ну нет, спешить мне некуда. Я беру листок чистой бумаги и начинаю не торопясь составлять ответ, согласуя его со своим "деревом целей и средств", в частности, с пунктами "не лгать" и "не помогать им в их по-пытках представить нашу деятельность тайной".
-- Предъявленное мне письмо я вижу впервые. Однако если оно дей-ствительно написано Инной Рубиной, то ее желание помочь ученым-от-казникам в установлении профессиональных контактов с коллегами и в поисках работы в Израиле кажется мне совершенно естественным. Ведь и сам Виталий Рубин, прожив много лет в Москве после необоснованно-го отказа, сумел продолжить свои исследования в Иерусалимском уни-верситете. Кроме того, именно солидарность коллег Рубина, ученых, выступавших в его защиту, помогли ему в конце концов выбраться из СССР и приехать в Израиль, где он буквально с первых дней продолжил свою работу, -- зачитываю я Чернышу свой ответ с листа бумаги.
Следователь, однако, пытается записать его своими словами, и у него получается так: "Это письмо написано Инной Рубиной, и ее желание помочь..." Я протестую, диктуя ему свой текст еще раз.
-- Что же вы -- не знаете почерк Инны Рубиной? -- раздраженно го-ворит Черныш.
Я в пререкания не вступаю, продолжаю диктовать. От ответов на дальнейшие вопросы -- не занимался ли, к примеру, кто-нибудь сбором подобной информации на семинарах ученых -- я отказываюсь по стан-дартной формуле.
После нескольких неудачных попыток отредактировать мой ответ Черныш говорит:
-- Ладно, сейчас я пойду к машинистке отпечатать текст допроса, а вы подождите здесь.
Он вызывает одного из следственной группы, чтобы тот посидел со мной. Это выглядит странным: обычно Черныш, который сам печатать не умел, отправлял меня в таких случаях в камеру и, если рабочий день кончался, предлагал мне подписать листы допроса в следующий раз. Меня это вполне устраивало, так как давало возможность лучше проду-мать формулировки своих ответов и в случае необходимости настаивать на их уточнении.
Итак, Черныш уходит, а минут через пять в кабинете появляется -- якобы в поисках Черныша -- полковник Виктор Иванович Володин. Этого человека я видел мельком раза два, но имя его слышал много-кратно. Должность Володина -- помощник начальника следственного отдела КГБ СССР, а фактическая его роль -- координатор всех полити-ческих диссидентских дел, которыми занимается КГБ. В тот момент Во-лодин был куратором моего дела, но вскоре стал и его формальным ру-ководителем. Часто во время допросов Черныш отвечал на его звонки, сообщал, у кого находится та или иная интересовавшая Володина бума-га, относящаяся к моему делу, а иногда даже, оставив меня на попече-ние другого следователя, убегал к нему на отчет. В ожидании его воз-вращения я гадал: к чему такая спешка? Или все это лишь представле-ние?
Сейчас, узнав, что Черныш у машинистки, Володин осматривается, "случайно" замечает меня и, дружески улыбаясь, подходит к моему сто-лику.
-- А, Анатолий Борисович! Здравствуйте! Как здоровье, как настро-ение? О чем сегодня беседовали с Анатолием Васильевичем?
Полковник строен, поджар, спортивен, и даже седеющая и редеющая шевелюра не мешает ему выглядеть значительно моложе своих пятиде-сяти с хвостиком.
Еще не остыв после борьбы с Чернышом, я продолжаю занимать обо-ронительную позицию.
-- Если вы имеете право меня допрашивать, то делайте это по зако-ну, с протоколом. А без протокола нечего со мной беседовать.
-- Я, конечно, имею право при необходимости и допросить вас, но сейчас хотел просто поговорить. И вы напрасно пытаетесь со мной с са-мого начала поссориться. От меня ведь многое зависит.
-- Я не хочу с вами ни ссориться, ни мириться. Я просто не желаю иметь с вами никаких отношений, -- отвечаю я по инерции, но, еще не окончив фразы, жалею о том, что занял такую жесткую позицию. А по-чему бы и впрямь не поговорить? Желание узнать, что произошло с моей запиской Слепаку и какие козни затевает сейчас КГБ, побуждает меня к разговору с Володиным. Кроме того, я наконец чувствую в себе -- может быть, впервые после ареста -спокойную уверенность, как когда-то, во время предыдущих встреч с КГБ, и мне хочется испытать себя, проверить результаты аутотренинга. Однако ответ дан, и отсту-пать я не собираюсь. Но и Володин явно не торопится отказаться от на-мерения побеседовать со мной. Он садится напротив, задумчиво и изу-чающе смотрит на меня, подперев подбородок руками.
В этот момент входит Черныш с отпечатанным протоколом моего до-проса. Володин оживляется, берет у него листы, читает, а потом воскли-цает в сердцах:
-- И это честный ответ борца за права евреев! Я бы на вашем месте ответил: да, я занимался такого рода деятельностью, проводил такие-то опросы с такими-то людьми...
-- Пожалуйста, можете записать свой ответ в протокол, -- прерываю я его.
-- Нет, я говорю, каким должен быть ваш ответ, если вы хотите, что-бы вам верили.
-- Мои показания вы держите в руках, а подсказки мне не нужны.
-- Вот так всегда с этими господами диссидентами. Кричат на весь мир о свободе слова, дискуссий, об открытой деятельности, а как к нам попадают -словно в рот воды набрали. И куда только весь ваш оратор-ский пыл девается?
Я возмущаюсь:
-- Да-а, вот уж действительно у вас здесь свобода слова -по-совет-ски. Схватили, закрыли ненадежнее от всего мира, приставили к груди пистолет, а теперь говорите: давайте свободно подискутируем.
Володин не только не обижается -- он, кажется, даже доволен.
-- А вы-то понимаете, что вас ждет? -- спрашивает он.
-- Мне уже объяснили, что непременно расстреляют, -- говорю я, улыбаясь. Тренировка приносит свои результаты: мне больше не надо притворяться, я говорю о расстреле как о чем-то постороннем.
-- Раз вы говорите о расстреле с улыбкой, значит, еще не понимаете серьезности своего положения.