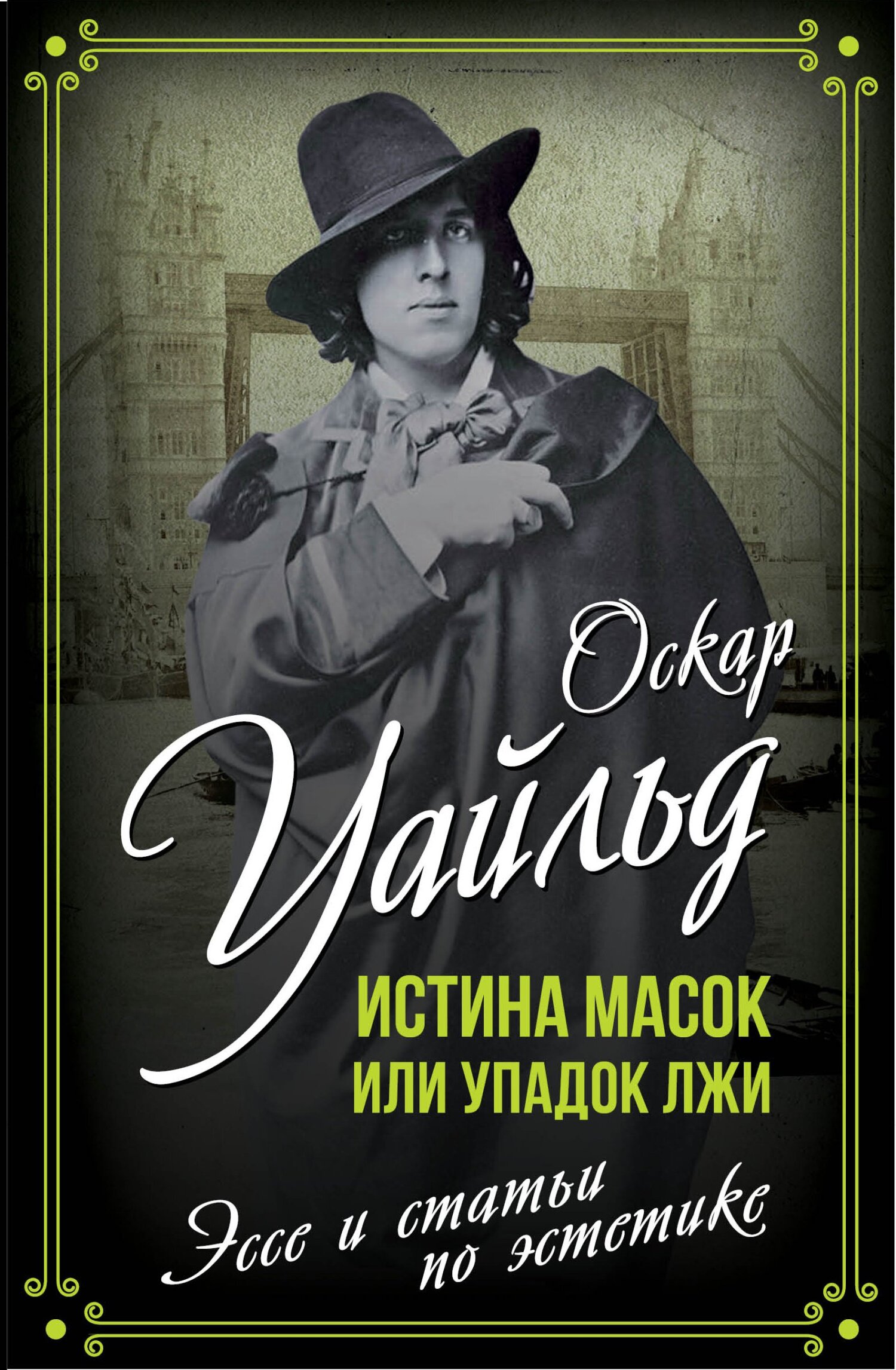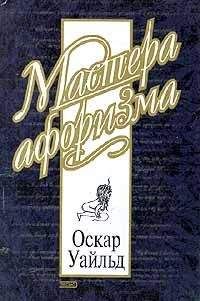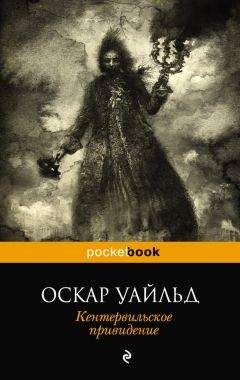нас; она сама наше создание. Лишь в нашем мозгу она начинает жить. Вещи существуют потому, что мы их видим, а что мы видим и как мы видим — это уже зависит от искусств, оказавших на нас свое влияние. Смотреть на вещь — совсем не то, что видеть вещь. Мы не видим вещи, покуда не видим ее красоты. Тогда, и только тогда эта вещь начинает существовать. В настоящее время люди видят туманы не потому, что туманы существуют, но потому, что поэты и живописцы показали им таинственную прелесть подобных эффектов. В Лондоне туманы существуют не первое столетие; смею сказать, они были всегда. Но никто их не видел, и потому мы о них ничего не знаем. Они не существовали, покуда искусство не изобрело их. Теперь же, по правде сказать, туманы доведены до излишества. Они сделались простою манерностью известной клики, манерою, и их преувеличенный реализм причиняет разным тупицам бронхит. Там, где культурные люди схватывают эффект, некультурные схватывают насморк. Итак, будем же гуманны и предоставим искусству направлять куда угодно свой чудодейственный взор. Да оно уже это и делает. Этот белый, трепетный солнечный свет, которым мы теперь любуемся во Франции, с его оригинальными пятнами пурпура и дрожащими лиловыми тенями, — последний фасон искусства, и природа в общем воспроизводит его весьма успешно. Там, где она раньше давала нам Коро и Добиньи, теперь она дает нам изысканных Моне и чарующих Писсарро. И в самом деле, бывают моменты — правда, редко, но бывают, — когда природа становится вполне современной. Конечно, на нее не всегда можно положиться. Дело в том, что она занимает весьма неудачную позицию. Искусство создает бесподобный и единственный эффект и, сделав это, переходит к другим делам. Природа, с другой стороны, забывая, что подражание можно превратить в самую подлинную форму оскорбления, без конца повторяет этот эффект, покуда он всем нам не надоест до смерти. Ни один из истинно культурных людей в настоящее время, например, не заикнется о красоте солнечного заката. Солнечные закаты вышли из моды. Они принадлежат тому времени, когда Тернер [45] быль последним словом в искусстве. Манера восхищаться ими — несомненный признак обывательщины, отсталости. Но закаты продолжают существовать. Вчера вечером мистрис Арэндель потребовала, чтобы я подошел к окну и полюбовался дивным небом, как она выразилась. Конечно, мне пришлось это сделать — она из тех чертовски хорошеньких филистерок [46], которым ни в чем нельзя отказать. Ну и что же? Это оказался просто второсортный Тернер, Тернер неудачной эпохи, преувеличенный и подчеркнутый всеми недостатками этого художника. Разумеется, я готов допустить, что жизнь очень часто делает ту же ошибку. Она создает своих фальшивых Рене и подложных Вотренов [47] совершенно так, как природа дает нам в один день сомнительного Сёра, а в другой — более чем подозрительного Руссо. Но природа больше нас раздражает, делая подобные вещи. Все это так глупо, так очевидно, так ненужно. Подложный Вотрен еще может быть восхитителен, но сомнительный Сёра невыносим. Впрочем, я не имею намерения обидеть природу. Хотелось бы, чтобы Британский канал, особенно у Гастингса [48], не походил так часто на какого-нибудь Генри Мура — этакий серо-жемчужный фон с желтыми бликами; но когда искусство станет разнообразнее, то и природа, без сомнения, приобретет больше разнообразия. Я думаю, даже злейший ее враг не станет теперь отрицать, что она подражает искусству. Это единственное, что приводит ее в соприкосновение с цивилизованным человеком. Не доказал ли я свою теорию, к вашему удовольствию?
Кирилл. Вы ее доказали, к моему неудовольствию, а это гораздо лучше. Но, даже допуская этот странный подражательный инстинкт в жизни и в природе, вы, конечно, признаете, что искусство выражает темперамент своего века, дух своего времени, отражает моральные и общественные условия, окружающие его и влияющие на него?
Вивиан. Отнюдь нет! Искусство никогда ничего не выражает, кроме себя самого. Вот основной принцип моей новой эстетики; и эта более чем жизненная связь между формой и материей, подчеркиваемая Патером, делает музыку типом всех искусств. Конечно, народы и отдельные личности, наделенные здоровым, естественным тщеславием, составляющим секрет существования, всегда готовы поверить, будто именно о них-то и говорят музы, всегда не прочь усмотреть в спокойно-величавых вымыслах искусства зеркало своих собственных нечистых страстей, всегда забывают, что певец жизни — не Аполлон, но Марсий [49]. Далекое от действительности, отвратив свои взоры от пещерных призраков, искусство раскрывает свое совершенство, а изумленная толпа, наблюдающая, как распускается эта дивная, многолепестковая роза, воображает, что это она сама, что это ее собственный дух воплощается в новых формах. Но в сущности это, конечно, не так. Высшее искусство свергает бремя человеческого духа и больше почерпает в каком-нибудь новом приеме, в каком-нибудь свежем материале, чем в возвышенной человеческой страсти, или в энтузиазме, или в каком-нибудь великом пробуждении человеческого сознания. Оно развивается по своим собственным законам. Оно не может служить символом для одной эпохи. Напротив, сами эпохи — это только символы искусства.
Даже те, кто считает, что искусство — представитель своего времени, места и народа, должны согласиться, что, чем искусство подражательное, тем меньше оно отражает дух своего века. Порочные лица римских императоров глядят на нас из грубого порфира и пестрой яшмы, в которой любили работать тогдашние реалисты-художники, и нам кажется, будто в этих жестоких губах и тяжких чувственных подбородках мы можем отыскать тайную причину падения империи. Но это было не так. Пороки Тиберия [50] могли уничтожить высшую цивилизацию не в большей мере, чем добродетели Антонина [51] — спасти ее. Она погибла от других, не таких интересных причин. Сивиллы и пророки Сикстинской капеллы, пожалуй, могут объяснить кому-нибудь то новое рождение освобожденного духа, которое зовется у нас Ренессансом; но говорят ли нам что-нибудь пьянствующие мужланы и сварливая деревенщина нидерландцев о великой душе Голландии? Чем искусство отвлеченнее, тем больше оно раскрывает нам нравы своей эпохи. Если мы хотим понять какой-нибудь народ при помощи его искусства, то должны обратиться к его архитектуре или к музыке!
Кирилл. В этом я с вами совершенно согласен. Дух века лучшее свое выражение может найти в абстрактных, идеальных искусствах, ведь и сам-то он, как дух, идеален, абстрактен. Но все же, если мы хотим увидеть наглядную картину того или иного века, конкретно постичь его, мы, конечно, должны обратиться именно к подражательным искусствам.
Вивиан. Не думаю. В конце концов, подражательные искусства, в сущности, показывают нам лишь различные стили отдельных художников или определенных школ. Неужели же вы полагаете, что люди Средних веков имели какое-нибудь