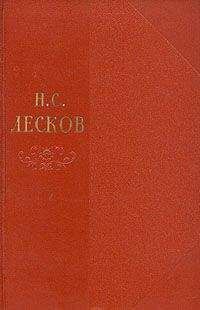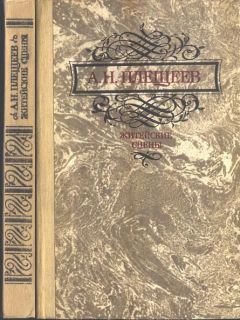Если бы сторонний нам чужеземец, не знающий всех сформировавшихся и окрепших отношений нашего общества к литературе и литературы к обществу, наблюдал только один приведенный нами взгляд без всякой связи с иными явлениями, то он, без сомнения, имел бы право заключить, что литературные занятия нигде так высоко не чтимы, как в России, и что общество наше ревниво дорожит репутациею своих писателей и считает их людьми, которые стоят
Превыше мира и страстей*.
Повторяем: чужеземец был бы совершенно прав, придя к такому выводу; но мы, «судьбину испытавшие себе на тягостную часть», мы, увы! должны чувствовать и умозаключать иначе.
Мы положительно можем сказать, что ни особой любви, ни особенного внимания в русском обществе к русской литературе и русским литераторам нет. По крайней мере, нет их далеко в той степени, в какой пользуются ими у своих соотечественников литераторы английские, французские, немецкие и польские.
Доказательств этому бездна, и на некоторые из них литература наша указывала. Так, было, например, говорено о том воодушевляющем сочувствии, которое недавно английское общество выразило Чарльзу Диккенсу при его отъезде в Америку, где он читал свои произведения. Указываемо было не раз на внимание публики иностранной и к другим писателям относительно меньшего значения, как, например, на симпатии французов к Виктору Гюго или немцев к Бертольду Ауэрбаху*. Было тысячекратно заявляемо о горячих чувствах к личностям, которых и вовсе нельзя ставить наряду с упомянутыми именами, но которые, однако же, все-таки обращали на себя внимание своего общества: таковы, например, Рошфор*, Шпильгаген* и др. Все эти писатели действительно могут сказать, что они пользуются вниманием своей страны. В одном из наших журналов как-то было с тщанием рассказано о том, с каким вниманием германское общество следит за каждым маленьким своим писателем, добросовестно отмечая ему всякое усовершенствование в его трудах и таланте. Так у опередивших нас по старшинству цивилизации народов не пропадают, не забиваются и не гибнут безвременно никакие силы, а все идет впрок, все складывается в общую корванну*, — и червонец богача по силам и лепта литературной вдовицы. Если обратимся к своим братьям славянам, то у них увидим даже крайность превознесения, равную разве лишь нашей крайности угнетения сил и принижения русских талантов. Отношения чехов и моравов к своим народным писателям почти священные. Злословие писателя здесь так же редко, как у нас доброе слово о пишущем человеке. Поляки тоже отменно дорожат своими литературными деятелями, и это относится не к одному Мицкевичу*, или даже к Красинскому*, Вицентию Полю*, или Сырокомле*, Корженевскому*, или Крашевскому*; но это идет до Викентия Каратыньского* и других подобных последнему писателей, ему же равных по силам и дарованиям у нас легион писателей, захаянных и изруганных всеми ругательствами. В странах, на которые мы сослались, так же как и у нас, помимо таланта автора ценится и принимается в расчет симпатичность или антипатичность его направления, и там, как и у нас, ни один писатель не угождает на все вкусы и не рабствует всем направлениям, но это несогласие автора с тем или другим кружком, с тем или другим «веянием» (как выражался покойный Григорьев*), не вменяются человеку в бесчестие, дающее право взводить на него были и небылицы, даже злостные и позорные клеветы, для того только, чтобы таким достойным способом вредить ему в общественном мнении, уже не только как писателю, но даже как гражданину и человеку. В английском обществе есть очень много людей, весьма недружелюбно относящихся к деятельности Диккенса, недовольных Байроном было еще более; у Виктора Гюго тоже немало недоброжелателей во Франции, а у Лагероньера*их еще более; Иосиф Фрич* в последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между чехами; в Галичине за многое начинают строго укорять Шевченко и еще более Кулиша*, а в Польше одно время с большою враждебностью относились к Корженевскому, но во все эти времена ни против одного из этих людей, ни прямо, ни не подсудным, но нравственно ответственным для честного человека намеком, не высказано миллионной доли того, что и тем и другим способом наговорено у нас писателями одной партии на писателей другой, в чем, разумеется, прежде всего должно видеть на одной стороне следы исторически развитого понимания и деликатности иноземцев и знания ими границ свободы слова, а на другой — недостаток этого знания и этого понимания у нас в России.
На чем же держится и от чего зависит прямая разница таких отношений у нас и за границею?
Многие находят, что определенный ответ на такой вопрос невозможен, потому-де, что хотя и ясно, что деликатность тона и благопристойность литературных приемов держатся на более или менее высоком строе общественного развития, но, с другой стороны, самою возвышенностию этою данное общество не обязано ли своей литературе? Следовательно, тут будто бы не разберешь, кто виноват в низменном состоянии литературы. Напрасное и тщетное усложнение вопроса, который сам по себе прост и ясен как нельзя более. Воспитывающее или развивающее влияние литературы отвергать, без сомнения, нельзя; но действующие силы литературы, сами литераторы как члены своей гражданской семьи обязаны своим развитием обществу… Они суть кость от костей и плоть от плоти известного поколения своей страны и всегда чрезвычайно верно отражают в себе все общие черты добродетелей и пороков своего общества. Эпоха упадка в искусстве не совпадала ли с упадком нравов и развитием стремления к наслаждениям грубым и низменным? Экономическая наука принимает за аксиому, что запрос развивает предложение, и аксиома эта имеет полное приложение к настоящему случаю. Период времени с 1825 года до окончания Крымской войны принято считать наистесненнейшим периодом русской литературы. В самом деле, как говорит Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском*, мы теперь не можем даже себе представить, что это было за тягостное время для литературы, но литература держалась во все это время великолепно. Помимо того, что страницы журналов тогда украшались именами талантливейших людей, каковы Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие, общее настроение литературного духа и взаимное общение, в котором развивались и совершенствовались тогдашние литераторы, не имеют ничего похожего с тем, что мы видим ныне. То действовали люди александровского времени, народившиеся после великого двенадцатого года и воспитавшиеся при одних обстоятельствах, а теперь действуют иные люди, родившиеся в иное время и воспитанные при иных обстоятельствах, но по всему, — решительно по всему, по нравам, по вкусам и по обычаю, — родные и свойственные своему поколению. Они предлагают то, что у них спрашивают, они говорят с обществом о том, что, по их наблюдениям, занимает общество, и даже говорят тем языком, который, по их соображениям, более идет и более нравится.
Приведем этому несколько доказательств.
У нас в России, в вышеобозначенный нами литературный период, очень много ценился так называемый хороший слог. В начале же нынешнего литературного периода общество стало пренебрегать этим; составилось странное мнение, что будто бы за достоинствами слога скрывается скудость содержания, и в доказательство этого приводились «обточенные периоды» Карамзина и тяжелый язык Шлоссера*. Хотя известными трактатами «о хорошем и дурном слоге» и давно разрешено, что хороший слог вовсе не то, что фразистая шумиха слов, и что хороший слог почти всегда свидетельствует о гармонии строения мысли в голове писателя, достоинства слога были презрены, и явились писатели, которые до сих пор удивляют своим неумением писать ясно, не водянисто и сдержанно. Это, всеконечно, сделал низко павший общественный вкус. Ему предлагают то, чего он спрашивал.
Примеры другого рода: Диккенс, как всем ведомо, имел скандалезнейшую историю, по поводу которой он расстался с своею женою и остался в дружественных отношениях с ее сестрою. Дело получило полную огласку, но ни одно солидное английское издание не сказало об этом ни слова: здесь действовали и уважение к талантам Диккенса и, еще более, боязнь общественного мнения, которое восстало бы против каждого органа, соблазнившегося возможностью поругать любимого писателя, и отшвырнуло бы такой орган в запамет*. Органы, враждебные Диккенсу, действовали с такою же осторожностию для того, чтобы не уронить себя в общественном мнении и не ославиться злорадцами. Недавно тот же Диккенс нескудно попировал с своими литературными приятелями в своем коттедже, и гости его, перепившись, подрались с медведем, причем сам Диккенс чуть было не лишился жизни, и опять мы не прочли в английских газетах по этому поводу никаких нападок на Диккенса и его друзей, а видели только одну радость, что Диккенс остался жив. Байрон умер в Миссолунги в 1824 году, и только ныне, через сорок пять лет после его смерти, г-жа Бичер-Стоу решилась описать* одно из очень черных дел великого поэта, и… в Англии очень недовольны, зачем г-жа Бичер-Стоу это сделала!