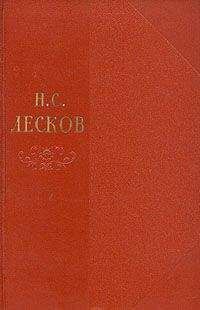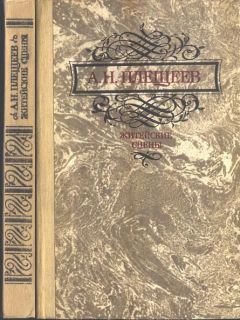Вот от чего зависит нравственная опрятность литературы или ее неряшество, ее деликатность или беззастенчивость по отношению к писателям. Где этого не любят в обществе, там этого не делают в литературе; а где в обществе кидаются, как у нас, на всякое злословие, там это злословие в литературе развивается до таких чудовищных и ужасающих размеров, до каких оно дошло у нас, где смело можно предлагать миллиардную премию за указание хотя одного имени не обруганного и даже не опозоренного литературного человека, и такого имени никто указать не в состоянии.
В обществе думают, что в этом виноваты сами литераторы, а в литературе основательно убеждены, что в этом виновато общество. По крайней мере несомненно, что держится это омерзительно гадкое злословие на общественном вкусе.
Было бы, однако, конечно, несправедливостью сказать, что таковы поголовно все вкусы, напротив, несомненно, что в нашем обществе есть своя доля людей, которым бесцеремонность отношений литераторов к литераторам надоела и даже оскорбляет их, и вот об этих-то людях здесь тоже приходится сказать два слова, так как между ними мы должны видеть современных друзей литературы и на них в известном смысле возлагать известные надежды, ибо они-де любят литературу.
Любовь и внимание, как и всякие чувства вообще, имеют свои видимые выражения, и по тому, каковы эти выражения, можно судить о самых чувствах. Дети, устами которых, по писанию, творец «совершает хвалу», в играх друг с другом говорят так; «я тебе подарю то-то и то-то, а ты мне что подаришь?» В этом возрасте уже есть понятие о такой комбинации, как взаимновознаграждение даже за подарки. Одна из героинь Бальзака или Жорж Занд говорит: «Да, я пожертвую свету своею любовью, моим счастьем, а чем свет мне за это пожертвует? Нет, — рассуждает она далее, — не за что ему приносить такой жертвы». Более или менее так судят и большинство людей.
Любовь к писателю выражается и вещественными и невещественными знаками. В Англии и во Франции произведения любимых писателей расходятся десятками тысяч, чего у нас не бывает, и вследствие этого во Франции какой-нибудь Сарду* живет синьором, имеет дома, дачи, первых лошадей и первостатейное знакомство, тогда как любой наш писатель, ему же г-н Сарду недостоин по своему таланту разрешать ремня у ног, даже ни о чем подобном не грезит в самой дерзкой мечте своей, и умирает слава богу если так, как умер Лажечников*, поручая детей своих милосердию государя (и то, заметьте, не общества, а государя!), а чаще же канает на госпитальной койке и хоронится в складчину. Известно, что литература у нас состоит из бедняков, питающихся впроголодь, и самые любимейшие из наших писателей стараются устраивать себя вне зависимости от одного литературного заработка.
Стало быть, вещественных доказательств так называемой любви к литературе и литераторам у нас чрезвычайно как мало и во всяком случае меньше, чем у всех других европейских народов.
Теперь посмотрим на невещественные выражения сочувствия и симпатии. Оказывается, что и этих не более, чем первых. Если у нас в настоящее время нет общих любимцев всей публики, то несомненно, что мы имеем писателей, которые пользуются заметным вниманием известных партий, но стоит любому памфлетисту, любому записному ругателю завтра же «обработать» писателя, которого произведение читалось вчера с несомненным сочувствием, — и этому станут улыбаться, и эта ругань станет повторяться на тысячи ладов; ее будут передавать и пересказывать как нечто достойное внимания и за нею станут забывать самое произведение.
«Да, NN черт знает что пишет, но как он забавно отделал того-то или того-то», — повторяют люди, вчера именно восхищавшиеся тем, о ком нынче прочитали площадное ругательство.
Не только оскорбительнейшие выходки против автора «Петербургских трущоб»*, жадно читанных в свое время нарасхват всею Россиею, но и всякие обиды, чинимые Тургеневу, Гончарову и Писемскому, — все это доставляет видимое удовольствие тем самым людям, которым авторы эти доставляли очень приятные минуты и которым даже, пожалуй, известно, что порицающие Тургенева, Гончарова и Писемского не имеют ни сотой доли дарований этих писателей, ни их прав на общественное внимание и почет.
Думают, что это ничего, что этим никому не вредят, что это-де только для смеха, — а этим много вредят литературе, этим удерживают и утверждают в ней тот жанр, в котором, например, составили себе известность два писателя, не устающие рассказывать, что им вздумается про всех и даже друг про друга о том, что из них один другому говорил, едучи в вагоне с обеда.
Предложение таких вещей является в силу запроса со стороны общества, которое потому и не имеет права ни удивляться тому, что происходит в литературе, ни кичиться перед литераторами элегантностью своего обычая.
Итак, в этом коротком очерке, пределы которого стеснены местом, назначенным для него нашим изданием, мы, как могли, показали кажется, что общество в весьма значительной степени повинно во всех безобразиях современной печати, что любви и внимания к литераторам, их доброму имени и их тягостнейшей и печальной судьбе в нашем обществе нет и что общественное осуждение литературы за многие печальные в ней явления есть только фарисейское лицемерие, К клеветам и преступным намекам на писателей, и вообще к так называемым «литературным скандалам», в нашем обществе многие относятся как к камелиям: они с ними публично не раскланиваются и даже оказывают им мнимое пренебрежение, но втайне наши пуристы не чуждаются их и позволяют им грабить себя со стороны наилучшего и драгоценнейшего своего достояния: со стороны вкуса и воздаяния справедливости труженикам, более или менее честно и строго по мере сил своих и разумения служащим литературе.
Судебные дела, которых так много скопилось к этому времени на литераторов, по отношению к одним из них свидетельствуют лишь о слишком строгой к ним придирчивости, по отношению же к другим напоминают, что и литераторы такие же люди и что против каждого из них его собственные семь чувств вступают иногда в жестокие заговоры, низводящие человека с его прямого пути на скамью подсудимого. Ничего в этом необыкновенного и ничего унижающего литературу нет, и в общественных толках, носящих характер сетования и укоризн литераторам за то, что они не стоят «превыше мира и страстей», более всего поражает вопиющая несправедливость таких укоризн и требований от людей, которым общество не только не давало средств становиться «превыше мира», но принижению которых оно при всяком случае как бы радовалось и рукоплескало: «вот-де они, нас поучающие, — сами нас не лучше и не чище!»
Поистине, велика радость и велико утешение, если даже это еще справедливо! Но справедливо ли это и имеет ли наше общество право кичливо думать, что наша литература ему не по плечу и наши литераторы достойны только тех успокоительных чувств, что «они-де никого не лучше», в этом мы в другой раз попробуем свесть наши счеты и надеемся, что, отнюдь не скрывая всех язв, разъедающих нашу строптивую литературную семью, мы все-таки не просчитаемся.
Бедные новости дня, за исключением одной «особенной», бродящей в сплетнях и россказнях истории, из коей до нас, частных людей, пока доходят еще только одни
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто*,
ограничиваются на сей раз новою повестью И. С. Тургенева. «Любимый» русский писатель на этот раз порадовал Россию рассказцем, написанным прямо для немецкого издания и на немецком языке*; но тем не менее Россия все-таки, конечно, заинтересована этим новым произведением, и о нем надо дать возможно скорый отчет.
Новая повесть И. С. Тургенева, написанная на немецком языке, называется «Странная история». Содержание ее вполне не вымышленное, а истинное: это давняя история жившего в тридцатых годах в городе Орле «блаженного Васи» и одной орловской же девицы, отрекшейся от света и пошедшей «угождать юродивому». Повесть вся крошечная: автор видит Васю, тот чем-то вроде магнетического или гипнотического воздействия на него показывает ему давно умершего его знакомого; потом автор встречает этого же Васю в другом месте в сопровождении знакомой ему девицы Б., оставившей свет ради апостольского служения при юродивом. Вот и все. Всей этой истории — всего на пол-листа, и читается она без малейшей задержечки: все ждешь, не будет ли где чего-то? и не встречаешь ничего, кроме самым обыкновенным образом рассказанного анекдота, к которому в Орле давно уже приснащены были разные подробности, упущенные г. Тургеневым или вовсе ему неизвестные (например, электрический свет, исходивший будто бы от юродивого Васи). Вообще же произведение это нельзя назвать и произведением. Это так, литературный вздор, пустяки, не отмеченные даже ни штрихом мысли, ни тенью дарования. Замечательного в этой повести только то, что она написана по-немецки, да то, что автор в ней ручается, что он видел давно скончавшегося человека при обстоятельствах, при которых никакой обман был невозможен.