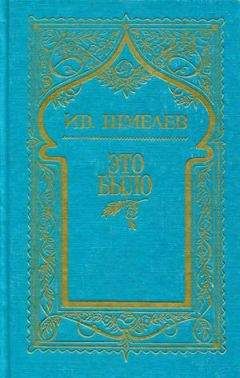Давно отшумела война, и я в глубоком тылу, таком глубоком!.. И я ничего не знаю, не вижу жизни. Не знаю, не уясню, – в больнице ли меня держат или… еще где? Мне совсем не дают газет, а письма… мне не дают и писем! Впрочем, одно имею, – от казначея! Как попало оно ко мне, не помню… Я нашел его на столе, после ухода немого парня, который приносит мне иногда обед. Я пробовал с ним беседовать… Он иногда послушает, ухмыльнется, и – ничего не скажет. Впрочем, недавно сказал, но только одно слово:
– Скоро.
Он напоминает мне моего Сашку: такой же скуластый, плотный…
Да, на днях… меня повели по коридорам, провели вверх и вниз и оставили с глазу на глаз с неприятным человеком. На столе лежали два револьвера. Но разговор наш был до того необыкновенным, бессмысленным, что мне трудно рассказывать. Меня хотели заставить вспомнить, где и когда я был за все эти годы! И не был ли я на службе у генерала Эн? Что же я мог ответить! Я только и мог сказать, что ровно ничего не помню за эти годы. Тогда меня заставили написать все, что знаю… И вот я пишу это. Мне часто мешают господа, называющие себя докторами. Они садятся вокруг меня и задают неожиданно самые глупые вопросы, стараются поймать на чем-то… Пожимают плечами, что я ничего не знаю и не помню… А вчера один стукнул кулаком по столу и крикнул:
– Это все скоро кончится!
И прекрасно.
Итак, я – в глубоком тылу. Но где полковник Бабукин? Странно, никто не знает. Где хоть Сашка? И о нем не знают… Все вытряхнулось куда-то, кануло… Представление кончилось! Должно же хоть где-нибудь оставить след свой! Неужели только в этой неверной машинке, в моем мозгу? Для чего-то уверяют меня господа, которые приходят ко мне и читают мои записки, – доктора они или не доктора? – что это все моя симуляция и фантазия! что если я так отчетливо помню даже мельчайшие происшествия из того, что было, почему я так «глупо» настаиваю на том, что мне, будто бы, совершенно неизвестно о «самом важном», о… Но тут они говорили до того странное!.. Не сон ли это? Ничего не могу понять…
Уверяют, что это мое притворство, моя фантазия… что я должен знать очень многое! что было на самом деле! Или они за меня боятся? хотят меня успокоить?..
Нечего за меня бояться. Я перенес болезнь, и теперь, если будут кормить получше, оправлюсь быстро и опять поведу работу в университете: я же подававший надежды физик, бывший ассистент покойного Лебедева!
Вот чудаки: фан-та-зия! Я могу показать письмо самого правдоподобного человека, моего пермяка-казначея, с самой подлинной лысиной во весь череп! Впрочем, я сам начал было сомневаться… Но вот, получил письмо. Он, оказывается, уже не считает деньги, а… клеит пакеты и продает на базаре хлам! Вот чудак!.. Но и он не знает, где полковник Бабукин. Но не говорит, что никогда никакого Бабукина не было! Напротив, можете прочитать: «…лучше не думать обо всей этой чертовщине и о том черте с тазом на голове»!!!..
Сегодня я покажу им письмо. Пусть хоть спишутся с казначеем. Он им скажет, какая это фан-та-зия!
Неужели я видел казначея?! Он самый, самый! Только страшно обрюзг, и под глазами натеки висят мешками. И лысина та же, только, пожалуй, не так сияет…
Мы столкнулись у неприятного человека… И, глядя в глаза друг другу, вспомнили про былое. Полковник Бабукин был! Это подтвердил казначей и для чего-то добавил, что и тогда моя голова была не совсем в порядке!
Нам не пришлось побеседовать: его повели налево, меня – направо. Впрочем, неприятный человек заявил, что завтра опять увидимся.
Если бы и полковник Бабукин появился! Я был бы счастлив. А хотелось бы встретиться, поговорить по душам… Правда, в его системе многое хаотично и подсказано больным мозгом, но гипотеза интересна… «Ультразеленые волны» эти… Они неизвестны физике, и это, конечно, – нонсенс, но… надо, серьезно надо заняться этим вопросом. Влиять на нервные центры! Ведь это – мысль! Рассуждая логически… – мы знаем силы, убивающие нервные центры, – силы гасящие… Почему же не быть другим?! силам, которые заряжают души небесным светом! Только это может перевернуть «естественный» ход вещей. Я верю. Иначе – не стоит жить.
1919–1922
I
Время было тревожное.
С Севера гнало беженцев. За ними бежали страхи. С вольных степных просторов – с богатой хлебом и салом Харьковщины, с полтавского чернозема, с Кубани, с Дона…. – совсюду бежали безоглядно, чтобы уткнуться в море. Казалось, не будет страха на берегах: там море ласково шепчет, солнце любовно греет, и татары-ленивцы похаживают себе с корзинами груш и винограда.
Не было здесь ни груш, ни винограда. Стояла в Крыму зима, какую никто не помнил. Густые тучи завалили солнце, в горах сыпало снегом, на берегу лили ливни. Море было свинцово, строго, – швыряло пену. Грязью текли дороги, и сумрачные татары затаенно сидели у очагов, поджидая «султана с пилимотом».
Перешеек и Сиваши – единственная дорога к морю. Ее держала горсть смельчаков, годы не знавших крова: бились у Перемышля и на Стоходе, на Кубани и под Одессой, на степях Предкавказья, на путях шахт донецких… Сколько их было на Перекопе – неизвестно. Знали одно: бьются. И еще знали, что там морозы.
Эту весть несли вереницы уток. Голод сбил их с замерзших вод Сивашей, и они тянулись и днем, и ночью. Они гибли в метелях на перевале, в снежных лесах; бились в горных щелях о скалы, – и добивались моря. Их тянуло туда, откуда раньше светило солнце.
Эти жалкие стаи болотной птицы сказали ясно, что соленые Сиваши замерзли.
Сиваши замерзли!
Каждое утро приносило страхи:
– Красные прошли по льду!
– Наши отходят в горы!
Но каждое утро белая телефонограмма ободряла: «Сиваши замерзли. Герои держат».
За стаями диких уток несло снеговые тучи. Ревели в горах, в сугробах, автомобили, зовя на помощь. Потерявшая корм лесная птица спускалась с предгорий к морю, шныряла по голой гальке, билась ночами в окна, пугая робких. Дрозды, с оранжевыми носами, давались в руки, совались в пустые дачи. Голубые сойки шарахались по кипарисам. Жалобно блеяли отары, выли овчарки, и растерявшиеся чабаны жгли на горах костры.
Все в природе смешалось, потерялось. Люди с тоскою глядели в море, но оно было совсем пустое. Оно било валами, шипело пеной, швыряло грязью, и только одни бакланы скользили черной цепочкой, выискивая добычу.
А в этом хаосе, тоске и страхе, в неустанном ливне, с утра и до поздней ночи, стреляло-бухало там и там, по речкам и побережью: ба-бах… ба-бах!.. То – невесть откуда взявшиеся охотники били в пьяном азарте отяжелевших уток.
Но жизнь умирать не хочет. И хоть было невыносимо, и многие думали о смерти, лишь бы уйти от страха, в городке у моря плелась привычная сетка жизни: покупали и продавали, сидели по кофейням, писали в пространство письма, пробирались через снеговые перевалы, лечили в лазаретах, учили детей в школах…
Еще оставались в хаосе люди, думавшие о детях. Настоящее было страшно, а будущее?.. Это – дети.
И вот, чтобы детское сердце не очерствело, а ухо не привыкло к стонам, к грому железа и звериному вою жизни, в городке у моря учили детей и музыкальным звукам. Учительница-чудачка настойчиво твердила:
– Надо, надо оставаться человеком!
Не до музыки теперь было. И все же, с нотами в рваных папках, ходили дети по раскисшим дорогам к дому, на берегу, где помещалась школа. Там, в гулком зале, разыгрывали они нетвердыми зябкими руками гаммы, разучивали вальсы, тихие песни и молитвы. Еще не знающие вражды, – русские, греческие, еврейские и татарские дети. А чтобы связать их сердце с живой и жестокой жизнью, учительница решила дать «музыкальное утро», чтобы сами дети послужили своим искусством жизни.
И вот, на стеклянных дверях городского дома – «Ялы-Бахча» – появилась рукописная афиша:
МУЗЫКАЛЬНОЕ УТРО
ДЕТИ – ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ – ДЕТЯМ
Но день для «Утра» выдался особенно ненастный. Дождь проливал потоки, море било валами в шторме, на улицах было пусто. Только бакланы тянули свои цепочки, да засла-бевшие, оглушенные утки метались в мути, в грохоте одуревших ружей.
– Ба-бах… ба-бах…
И падали тряпками в мутно-дождливой сети.
Но дети пришли, чтобы дать свое маленькое «Утро».
II
В этот день бродили по городку двое.
Кто они были?.. Отставшие ли от своей части, выписанные ли из лазарета и теперь пробиравшиеся к коменданту? или докатившиеся до моря, через горы, с полей российских, без цели и без причала, дезертиры, – кто скажет? Одно было в них ясно: это были русские солдаты.