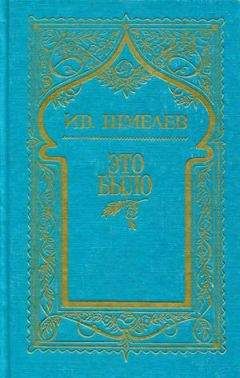– Доктор, позвольте слезть…
Этот робкий и нежный голос ударил меня в сердце. В душе я крикнул:
– С ними! хочу с ними!!
– Слезайте, поручик… – безучастно ответил доктор. – Этот совсем тихий.
Неподалеку от нас сидел на траве толстяк фельдшер, торопливо рвал лопухи и разговаривал сам с собой:
– Не так-то просто-с… Нет-с, полковник Бабукин знает… Не так-то-с просто-с…
– Нарождается новый номер… – сказал про него доктор. – Так вот и очищается человечество. Я верю в отбор.
Это был редкостный образец здравого человека, с удивительно чистыми глазами, с румянцем в меру, с гребеночкой в боковом кармашке. Это был вполне здравый, с крепкими белыми зубами, как у Сашки. Были даже и скульца, как у Сашки. Тот стоял у машины и закусывал из казначейской корзины. Казначей куда-то пропал, странно: должно быть, прятал казенные миллионы…
Доктор осведомился, как и что, когда и откуда прибыли, записал в книжечку – на случай, узнал про наши запасы и сказал удовлетворенно:
– Это теперь очень кстати. Если раньше не потревожат, закусим, вывесим белый флаг с красным крестом и скажем вежливо: «мы сдаемся». По-ихнему будет: «немен-зи-гефан-ген!» Значит, выпали из войны. Финита!
Потом… Я плохо помню подробности. Ну, полковника развязали, вспрыснули морфию, и он скоро уснул. Его оставили там, в верхней палате, в боковом флигеле. Я остался с ним ночевать… Много думал…
XII
Пала ночь. Все затихло. Что же нам скажет утро?..
Я сидел у окна, слушал голоса ночи. Она молчала. Далекие, редко, глухо, били орудия. Рядом – хрипло дышал полковник. Какие кошмары пришли к нему? какие демоны крючьями рвали сердце?..
Стоит ли мучиться, и во имя чего, кого? Не хочу и не буду мучить себя «во имя»! Слишком много знаю, видел и пережил… Хороша парковая решетка… художник понимал дело! Вон на дубу – Распятый, облупился, рот потерял от крика… Нет, не буду и не хочу с ними… Прав доктор: очищается человечество, великий отбор идет, смеются-зевают камни… Это они грохают так мерно, нащупывают «мясо»… Очищается человечество! Меньше и меньше будут мучить себя «во имя»… Скоро люди науки, люди трезвого смысла, давшие миру «толуолы», откроют величайший секрет – заряжать человека мозгом, тугим и крепким! Великое торжество близко. Страшно же, черт возьми, горилле давать хрупкую, человеческую, душу! Тогда, наконец, смело и гордо назовет себя человек – гориллой!..
В лунном свете, залившем двор и белые стены, грезились мне волнующиеся тени, тени… Что за тени? Там и там скользили они неслышно. Что за тени?.. Несчастные ли, в которых жила когда-то человеческая душа, хрупкая, слабенькая душа, смятая оболочкой зверя? Или это призраки чистых людей тихого света, еще не родившихся на земле?.. Не являюсь ли я счастливым свидетелем тайны тайн? Быть может, то зачинались в ночи неясными очертаниями теней скользящих прекрасные люди будущего?..
Я слышу тонкий; трусливый вой и яростное ворчанье… Нет, не грядущее обновленье это. Это они, бродящие по ночной пустыне. Нет еще на этой земле силы таких зачатий… В крови зачатое будет звериным крепко, не будет лопаться и дрожать, не будет мучить себя «во имя»…
Я слышу и храп, и соп. Это казначей спит – не грезит. На его гладкой лысине ясно играет месяц. Он спит спокойно: зарыл таки чемодан под щепой, в сарае.
И Сашка славно храпит, рядом с полковником, пожелав ему снов приятных. Сказал, укладываясь, вещее, свое, слово, – таки осилил:
– Эх, без ума не сойдешь с ума!..
Как и Сашка, полковник был теперь от этого застрахован. Он уже – факт и суть.
Я сидел у окна и слушал. Сидел и грезил… Полный месяц подымался выше, стерег землю. «Гуляй, тихий… гуляй, ночной!»
На заре, только-только стало подыматься солнце, услыхал я впросонках резкий сигнал трубой. Я вскочил и глянул за занавеску. И тут, наконец, поверил, что передо мной самая настоящая суть, как казначейская лысина.
Галопом влетел во двор кавалерийский отряд, человек в двадцать, на крепких рыжих конях, на медных конях, – в железе, сукне и коже. Впереди – мальчик, в серебряной каске, со свежим лицом, как румяное яблочко. Он взмахнул серебряной саблей к полотнищу над воротами и закричал кому-то:
– Что и кто здесь?! Я спрашиваю, что это?!. И показал саблей к полотнищу на воротах.
Из окна флигеля открывалась поразительная картина.
Солнце играло красным, ранним, огнем на серебре и меди, на тяжелых, взмокших конях, на ремнях, на ружьях, на тугих ляжках, на шпорах, на сапогах… На нижней плите крыльца стоял доктор, в накинутой шинели, с полотенцем на палке, и говорил своим голосом, очень четко:
– Нэмен-зи-гефанген! Мы сдаемся, господин лейтенант! Мы – под Красным Крестом!
– Чер-рт… я спрашиваю, что здесь?!. – кричал мальчишески-звонко немец. – Что такое… лу-на?!.
Доктор ответил, отчеканивая слова:
– Здесь, брошенный всеми, дом сумасшедших… Просим вашей отзывчивости.
И знаете, как отозвались на это люди в железе, сукне и коже, на крепких рыжих конях, на медных конях, всё круглоголовые свежие крепыши в касках?
Они хохотали… хохотали, как сумасшедшие… С ними хохотал бор, потерявший тайну, хохотали тихие недра, хохотали пустые сараи и разбитые чердаки. Хохотала настоящая жизнь, зычная, полная крови жизнь, не сбивающаяся на бред, не знающая сомнений. Знающая одно: я – жизнь!
И вдруг, в этот оглушительный грохот глоток й пустоты, к морде передового коня скользнула приземистая, серая тень… – и молнией полыснула бритвой…
Бац!.. Вахмистр-усач в упор положил ее. Завертелось в глазах… Копь1та вздыбленного коня, сверкнувшая сабля, каски, сабли, сабли… и на росистой траве, в лиловом серебре солнца, – серый, вздрагивающий комок… Копыта, лошади на дыбах, и сабли…
XIII
Тут наступает провал… Я почти ничего не помню. Как будто круглые лица, в касках., округленные глаза, в огне… тонкие голоса, – сестер!.. Да благословенна будет Рука, задвинувшая заслонку! Я ничего не помню…
Приходили ночи в окно, с огнем и громом. Должно быть, били орудия. Знакомое лицо… – Сашка? – являлось и уплывало… И кто-то, чужой, стоит и стоит с обнаженной саблей…
Прорывает мои потемки огонь и треск, будто рушится все кругом, и я отчетливо вспоминаю раскатистое – ур-ра-а-а… – сыплющееся в окно, с воли… Оно вырывает меня из тьмы.
Помню бородатое казачье лицо, сладкий коньячный дух и волосатую руку, протягивающую жестянку с мармеладом. Оно гладит мой лоб, курит трубку и говорит что-то очень веселое, чего я никак не могу понять. Я узнаю слова, но не могу понять смысла:
– …бросил наш корпус!., артиллерия хорошо крыла… угробили!.. мы ловко дыру заткнули… и крысы попали тепленькими! Веселенькая охота…
…Крысы… Какие крысы?
Вот, наконец, и Сашка: сияет его лицо.
– Немцы, ваше высокобродие… Наши казачки накрыли!
Я помню ласковую сестру, светлую русую головку. Милые, родные глаза, девушки русской… Помню чудесно сверкающие кристаллы в стаканчике, ледяные кристаллы. Они льются в меня, я вытягиваюсь, тончаю… весь я – звонкая, сверкающая струна…
И опять пробел…
Как будто город… вечерние улицы, огни. Высокие своды, портреты в золотых рамах, длинный стол, под зеленым сукном. За ним много военных, куча бумаги, ружья… Как будто, суд. Да, конечно. Что это, сон мой длится? Опять все тоже – Италия, Греция, Аргентина? Толпа казаков с лихими вихрами, огневыми глазами степных орлов… Казначейская лысина! Она трется у моего локтя и бормочет – шепчет: «конец, капитан… конец». Итальянец стучит себя в грудь, говорит-говорит-говорит… Аргентинка… Нет Аргентинки! Простоволосая баба кричит визгливо:
– Помилосердуйте… родненькие мои… Что это, сон мой длится?
Усатый старик, в боевых орденах, с черной заплаткой-повязкой, кривой и зоркий, высоко подымает бумагу с печатью, пальцем по ней стучит… Я слышу звериный вой:
– Помилуйте, родненькие мои!..
Потом… нет, не помню. Я видел петлю, и шелковый хвост в клочьях, и казачьи вихры лихие, и… веселую лысину довольного казначея. Это я хорошо помню. Неведомая рука открыла заслонку и показала. И опять закрыла…
Месяцы протекли или годы? Я часто путаю время. Я знаю, что были зимы, дожди и грозы, и – много страшного. Но – странная эта штука, память! Она у меня или необычайно ярка, или, местами, в дырьях. Я помню все минуты одного дня, а то – проваливаются годы… Доктора уверяют, что мне надо серьезно полечиться, тогда вернутся ко мне и провалившиеся годы, что со мной бывают, так называемые – «люцида момента»! Полечиться… уравнять память? Не желаю! Довольно с меня и – «люцида момента»!
Вот и опять я тот же, и могу бойко рассказывать. Я все сознаю, все помню… За исключением… но что об этом! Все складочки и пупырья на шее Сашки, все морщинки земляка – казначея, все слова, какие сказал я в жизни… за исключением! Но исхудал я страшно, как видите…