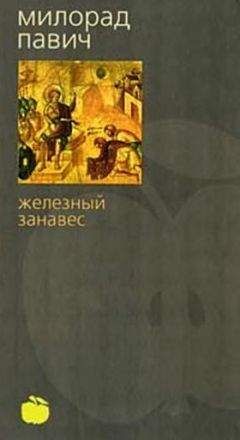- Разве вы не играете на кларнете?
- Нет, с чего вы взяли?
- У вас губы сложены трубочкой. Простите великодушно, если помешал. А у вас найдется две минуты на эскалаторе для беседы?
- О чем?
- Обо всем и ни о чем. Кто вы по знаку Зодиака?
- А как вы думаете? Угадайте.
- Козерог?
- Никогда. Я не такая нервно-заносчивая.
- Дева?
- Нет, я вовсе не мнительно-кокетливая. Ну, последняя попытка.
- Погожу. Но совершенно уверен, что вы интересуетесь литературой профессионально. Кто, кстати, вы по профессии?
- Психиатр.
- ???
- Но вы угадали, я собиралась поступать в Литературный институт, но меня не приняли.
- Творческий конкурс не прошли?
- Его-то как раз и прошла, но не разрешили бесплатно получать второе образование, особенно, когда я не закончила ещё и мединститут.
- Странно, раньше разрешали.
- Ну то было раньше, когда государство не считало копейки. А сейчас считает. А вас зовут, случайно, не Карл?
- Почему именно Карл?
- Но ведь именно Карл украл у Клары кораллы, которая в свою очередь беззастенчиво украла у него кларнет.
- Один-один. А что вы пишете?
- А кто ректор Литинститута, вы знаете?
- Есин.
- А как его зовут?
- Сергей.
- Правильно. А отчество?
- Не помню его отчества, я с ним только шапочно знаком, и общался без отчества.
- А вы что пишете?
- Все. Сейчас преимущественно прозу, а чаще стихи.
- И я стихи. Чаще всего эпиграммы на своих однокурсников.
- Не прочитаете ли.
- Пожалуйста. Он - удивительный петух, повсюду дамам строит куры, хотя огонь в глазах потух до окончанья процедуры. Он - просто жалкий лицедей, а не орел и не стервятник, пускай закончил он лицей, но не освоил он курятник. Как?
- Забавно.
Я вгляделся в собеседницу. Передо мной под дешевеньким зонтиком стояла полубезумная девушка с тусклым знакомым огоньком в глазах, курносый нос был вызывающе задран вверх, волосы полусожженной паклей торчали над наморщенным лбом. Но ноги, действительно, были стройными. А лицо все-таки отталкивало.
- Какие у вас дальнейшие планы?
- Надо сдавать госэкзамены. И потом я работаю, больные ждут. Простите, вот и мой автобус.
И она ринулась вперед, последний раз мелькнув притягательными черными колготками. Я понял, кого она мне напоминала: п-скую Ниночку и одновременно её полубезумную мать. Во всяком случае усталое лицо двадцатидвухлетней девушки впитало изрядное количество убийственных эмоций. Ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому предусмотрительно я и не стал психиатром, хотя желание было. Зато психиатром стал Виталий Белов, мой товарищ по мединституту. Сейчас он директор оздоровительного центра в Филадельфии, эмигрировав со своей полуеврейкой-женой Заремой Зильберштейн, киноведом и медсестрой по совместительству. Как киновед, она посещает профессиональные тусовки и издала книгу о Занусси, а как медсестра лечила собственного мужа и работает с ним бок о бок в профилактории. С меня в свое время хватило несколько недель студенческой обязательной практики. Когда один из пациентов, историю болезни которого я обязан был заполнить, начал мне чрезвычайно убедительно рассказывать о том, что ему некие органы перекрыли все выходы, я поинтересовался, какие выходы? Так у вас тоже часть перекрыта, неужели не замечаете? - вежливо поинтересовался больной. И я понял, что ещё парочка таких больных и я точно свихнусь. Недаром, все преподаватели страдали не только особого рода речью, лицо каждого из них было мучнисто-отечным, словно недопеченное тесто, какие в то время были у диссидентов, вылеченных при помощи инсулинового шока.
Виталий Белов - особ статья, мы были неразлучны лет пять, курса со второго. Он пробовал писать стихи, но быстро выдохся, зато любил читать те же книги, что и я, и жил практически теми же интересами. Только с женщинами он был достаточно робок, и когда я познакомил его с Заремой, которая на тот момент служила в областной библиотеке и являла для меня загадочный тип свободолюбивой порочной женщины, совершенно не стеснявшейся своих грехов: она пила, курила и бравировала близкими отношениями с великими современниками - Андреем Тарковским, Андреем Вознесенским, Андреем Битовым, была, видимо, у неё такая андреемания, из покойных классиков она выше всех ставила Андрея Белого. Внешне она была совершенно неавантажна: коротконогая, с отвислым животом и размазанными лепешками грудей, носатая женщина в очках, но губы у неё были постоянно в сладострастном движении, как трущиеся друг о друга дождевые черви, что одновременно пугало и притягивало, во всяком случае завораживало. Счастье мое, что я не поддался животному гипнозу самки, в отличие от моего друга, который немедленно стал курить, пить дешевое плодово-ягодное вино и, видимо, спать с Заремой, что окончилось его женитьбой на ней через месяц после знакомства, полным переходом под её духовную, а не только физическую опеку, их общей враждебностью по отношению ко мне, что со стороны Заремы Зильберштейн вполне объяснимо, ибо я пытался помешать её женскому счастью, нечаянно его поначалу устроив. Я усугубил наши отношения быстротечным романом с двоюродной сестрой Заремы Светланой, муж которой был на срочной службе в армии. Светлана работала в детском саду воспитательницей, отличалась длинноногостью и любовью к черным чулкам (колготок тогда ещё не было в изобилии), также курила как паровоз и целоваться с ней было все равно, что лизать пепельницу, но охота пуще неволи, а дурная голова ногам покоя не давала.
Меня спасала боязнь брачных уз и удивительная способность мгновенно забывать об объекте вожделения, как только он пропадал с глаз. И мгновенное новое увлечение новым объектом, оказавшимся в визуальной досягаемости.
На самом деле основным моим занятием была словесная лаборатория, которой я отдавался до изнеможения и в гордом одиночестве. Редко кто разделял мои увлечение Велемиром Хлебниковым, палиндромным стихом, например, куллинар ранил лук, рвал лавр, бел хлеб, но мил лимон. Заметьте, именно мил лимон, а не то, чтобы - да, но мил лимонад. Никакой химии, сплошная естественность. Никаких крашеных блондинок. Мне нравилась строка сейчас забытого автора, может быть, он тоже слинял в Израиль: "И слово "Обувь", как "Любовь" я прочитал на магазине". Моя несравненная Марианна Петровна по иронии судьбы жила как раз на третьем этаже дома, первый этаж которого занимал самый лучший городской магазин "Обувь". Толпы страждущих земляков стояли в три кольца вокруг дома не только днем, но и ночью. Все хотели носить чешскую обувь марки "Цебо", немецкую (предел мечтаний) марки "Саламандра", а получали чаще всего ленинградский или кунгурский "Скороход".
Мне довелось жить в этом доме, когда уже никакой импортной обуви не было в магазине не только в свободной продаже (ее, в основном, распродавали из-под прилавка), но и в помине, а когда я уехал в столицу, то, вернувшись через несколько лет в командировку, обнаружил вместо обувного магазина салон художественной продукции: линогравюры, живопись, графика и скульптура малых форм заполнили его доотказа.
III
Любовь одноглаза, ненависть слепа. Расследование аварии показало, что она не была случайной: взорвалась мина, заложенная в багажник. Кого хотели уничтожить: Гордина или владельца машины, было неизвестно. Велось расследование.
Владимир Михайлович Гордин оказался в палате двенадцатым по счету пациентом, быстро пришел в себя и на следующий день уже сочинял центонный роман-хеппенинг "В другое время в другом месте", который опубликовал автор этих строк.
Любопытно, что я оказался сейчас как бы третьим лишним в выяснении отношений между Гордиными-двойниками, тем не менее по каким-то параметрам будучи им весьма близким по занятиям и образу жизни, нося, впрочем, другое имя и фамилию. А то не миновать бы тройной разборки!
Интересно, кстати, пересечение силовых линий традиций и новаторства, своего и чужого. Надеюсь, вы помните, что лев состоит из переваренной баранины. А двадцать лет тому назад Гордин, работая в газете "Макулатура и жизнь" получил накануне 8-го марта письмо от жительницы далекого уральского городка Чердынь, где в свое время падал из окна Осип Мандельштам. Письмо это его необычайно тронуло, он попытался подготовить его к печати, но косность коллег и быстрый уход из газеты помешали публикации. Оно и сегодня, на мой взгляд, поражает безыскусным глубокомыслием и подумалось: "А что, если это проза да и смешная?"
Приведу хотя бы фрагмент письма:
"...В свое время некий известный художник, чуть ли не Брюллов, отравился парами ртути в процессе приготовления краски. А Риман (друг и коллега М.В. Ломоносова) был убит молнией во время опытов по изучению атмосферного электричества. Старый человек - нередко переполненный мешок опыта.
Упомянутые выше люди занимались весьма нужным и полезным делом, их старания заслуживают одобрения, а безвременная кончина - искреннего сожаления, но вот если иной человек "обжигается" на пустяках и притом ради забавы, то ему в самый раз "сочувствие" Демьяна Бедного из басни "Свеча": "...сам на себя пеняй и сам себя жалей, а мне тебя не жаль, польстившись на пустой подарок, что заслужил, то получи - заместо сотенной свечи копеечный огарок".