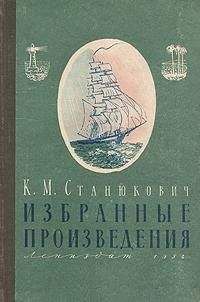Всегда резвая и забавная Лайка, неказистая на вид рыжая собачонка неизвестной породы, с кургузым хвостом, забежавшая случайно на корвет, когда он готовился к дальнему плаванию в кронштадтской гавани, и с тех пор оставшаяся на корвете под именем Лайки, данным ей матросами, — она теперь, забравшись в угол, по временам жалобно подвывает, беспомощно озираясь мутными глазами и, видимо, недоумевая, как бедняге приспособиться, чтобы не кататься по скользкой клеенке, которой обтянут пол кают-компании. Отсутствует, против обыкновения, и Лайкин приятель Васька, белый жирный кот артиллерийского офицера. Видно, и Ваську укачало.
Одетый в толстое драповое короткое пальто, на диване сидел лишь старший офицер, плотный, здоровый брюнет лет тридцати пяти, загорелый, серьезный и, видимо, возбужденный. Он осторожно держал в своей широкой бронзовой руке, мускулистой и волосатой, стакан с чаем без блюдечка и подносил его к своим густым черным усам, улавливая моменты, когда можно было хлебнуть, не проливши жидкости.
— Доброго здоровья, Алексей Николаич!
— Мое почтение, Александр Иваныч!
Придерживаясь за привинченную к полу скамейку около стола, мичман подошел к старшему офицеру, чтобы поздороваться, и чуть было не навалился на него.
— Говорят, за ночь засвежело, Алексей Николаич? — спросил молодой человек, присаживаясь на скамейку около дивана.
— Свежо-с! — коротко отрезал старший офицер.
Он продолжал молча отхлебывать глотками чай, занятый какими-то мыслями, и через минуту проговорил:
— Главное, анафемское волнение! Того и гляди какую-нибудь шлюпку снесет или борт поломает! — озабоченно и сердито продолжал старший офицер и, допив стакан, вышел наверх.
— Эй, вестовые! Скоро ли чаю? — крикнул Опольев, оставшись один.
Но уже стриженая черная четырехугольная голова Кириллова показалась в дверях кают-компании, и вслед за тем он стремительно сделал шага два вперед, брошенный качкой, но, однако, успел удержаться и сохранить в руках стакан с чаем, обернутый салфеткой. Сзади его другой вестовой нес сахарницу и корзинку с сухарями. Все было донесено благополучно, и Опольев, жадно выпив один стакан, спросил другой.
В эту минуту в кают-компанию спустился сверху, чтобы «начерно» выпить стаканчик горячего чая, старший штурман, старый низенький человечек в блестевшем каплями кожане, одетом поверх пальто, с обмотанным вокруг шеи шарфом и с надвинутой на лоб фуражкой. Все на нем было старенькое, потасканное, обтрепавшееся, но все сидело как-то необыкновенно ловко, придавая всей его фигуре вид старого морского волка.
Несмотря на порывистую качку, он ступал по палубе своими привычными цепкими морскими ногами, не держась ни за что, то балансируя, то вдруг приседая, — словом, принимая самые разнообразные положения, соответственно направлению качающегося судна.
Заметив по выражению красного, морщинистого лица старика, что он не в дурном расположении духа, в каком он бывал, когда ему слишком надоедали расспросами или когда корвет плыл вблизи опасных мест, а старый штурман не был уверен в точности счисления, — молодой мичман, после обмена приветствий, спросил:
— Как дела наверху, Иван Иваныч?
— Сами увидите, батюшка, какие дела… Вы ведь, видно, на вахту, что такая ранняя птичка сегодня! — пошутил старик. — Дела-с обыкновенные на море! — прибавил он, аппетитно прихлебывая поданный ему чай, в который он влил несколько коньяку, «для вкуса», как обыкновенно говорил штурман.
— Где мы теперь находимся, Иван Иваныч?
— А на параллели Бискайского залива, во ста милях от берега. Ну-ка еще стакашку! — крикнул старый штурман вестовому… — Да и коньяку не забудь! Приятный вкус чаю придает! — прибавил он, снова обращаясь к молодому человеку. — Попробовали бы… И от качки полезно… Что, вас не размотало?
— Нисколько! — похвастал мичман.
— Вначале всякого разматывает, пока не обтерпишься… А есть люди, что никогда не привыкают… Помню: служил я с одним таким лейтенантом… С пути должен был, бедняга, вернуться в Россию.
— К вечеру, я думаю, и стихнет? — спрашивал Опольев, стараясь придать своему голосу тон полнейшего равнодушия, точно ему было все равно — стихнет или не стихнет.
Иван Иваныч в ответ усмехнулся.
— Стихнет-с? — переспросил он.
— А разве нет?
— К вечеру, я полагаю, настоящая штормяга будет. Барометр шибко падает.
Старый штурман, перенесший на своем долгом веку немало штормов и раз даже испытавший крушение на парусной шкуне у берегов Камчатки, проговорил эти слова таким спокойным тоном, точно дело шло о самой обыкновенной вещи, и, отхлебнув несколько глотков чаю с коньяком, крякнул от удовольствия и прибавил:
— Теперь вот и кашель душить не будет… А то стоял наверху и все кашлял… Эй, Васильев! — крикнул он.
Явился вестовой.
— Плесни-ка еще чуть-чуть коньячку… Стоп — так! Мокроту разгоняет! — снова прибавил как бы в оправданье старый штурман, любивший таки лечить и свои и чужие болезни специально коньяком и в некоторых случаях хересом и марсалой.
Других вин старик не признавал и особенно презирал шампанское, называя его «дамским полосканьем».
— Так вы полагаете, Иван Иваныч, что шторм? — небрежно переспросил Опольев и в то же время покраснел, чувствуя, что голос его дрогнул, и воображая, что штурман заметил его страх.
— Обязательно! Форменный, батюшка, штормяга! Уж такая это подлая Бискайка[8]. Сколько раз я ее ни проходил, всегда, шельма, угостит штормиком! Да-с.
Старик с видимым наслаждением допил стакан, нахлобучил фуражку и ушел.
Одольев взглянул на кают-компанейские часы: до восьми часов оставалось еще пять минут. Он допил чай, надел при помощи Кириллова дождевик и с первым ударом колокола, начинавшего отбивать восемь склянок, поднялся по трапу наверх, возбужденный и взволнованный в ожидании «первого шторма» в своей жизни, и снова на мгновение вспомнил о кудрявом деревенском саде, о Леночке с ее чернеющей родинкой на румяной щеке, с ее славными глазами…
«Как там хорошо, а здесь…» — пронеслось в голове молодого моряка.
Он вышел на палубу и сразу очутился в иной атмосфере.
Его охватил резкий холодный ветер и обдало водяной пылью. Он услыхал характерный вой ветра в снастях и рангоуте, увидал бушующий седой океан, и мысли его мгновенно приняли другое направление — морское.
И он принял равнодушный вид и молодцевато поднялся на мостик, точно сам черт ему не брат и штормы для него привычное дело.
III
Несмотря на жгучее чувство страха, охватившее в первый момент молодого мичмана, величественное зрелище бушующего океана невольно приковало его глаза, наполнив душу каким-то безотчетным благоговейным смирением и покорным сознанием слабости «царя природы» перед этим грозным величием стихийной силы.
Вокруг, на видимое глазом пространство, океан словно весь кипел в белой пене, представляя собой взрытую холмистую поверхность волн, несущихся, казалось, с бешеной силой и с шумом разбивающихся одна о другую своими седыми гребнями. Но кажущиеся вдали небольшими холмами, эти валы вблизи преображаются в высокие водяные горы, среди которых, то опускаясь в лощину, образуемую двумя валами, то поднимаясь на гребень, идет маленький черный корвет со своими почти оголенными мачтами, со спущенными стеньгами, встречая приближение шторма в бейдевинд, под марселями в четыре рифа.
Раскачиваясь и вперед и назад, и вправо и влево, корвет, поднимаясь на волну, разрезает ее и иногда зарывается в ней носом, и часть волны попадает на бак, а другая бешено разбивается о бока судна, рассыпаясь алмазными брызгами. Изредка корвет черпает бортом, и тогда верхушки волн вкатываются на палубу, выливаясь через противоположный борт в шпигаты.
Вот-вот настигает громадный вал… Вон он за опустившейся кормой, высоко над нею и, кажется, сейчас обрушится и зальет этот корвет, кажущийся теперь крохотной скорлупкой, зальет со всеми двумястами его обитателями без всякого следа… Но в это мгновение нос корвета уже спускается с другого вала, корма поднялась высоко и страшный задний вал с гулом разбивается об нее и снова опускает корму.
Все небо заволокло темными кучевыми облаками, которые бешено несутся в одном направлении. Мгновенно покажется солнце, обдаст блеском седой океан и вновь скроется под тучами. Ветер ревет, срывая по пути верхушки волн, рассыпающихся серебристой пылью, и воет в рангоуте, в снастях, потрясает их, точно негодуя, что встретил препятствие…
Вахтенные матросы в своих просмоленных парусинных пальтишках, надетых поверх синих фланелевых рубах, держатся за снасти. Все молчаливы и серьезны. Ни шутки, ни смеха. Когда волна обдает брызгами, они, словно утки, отряхиваются от воды и снова смотрят то на океан, то на мостик.