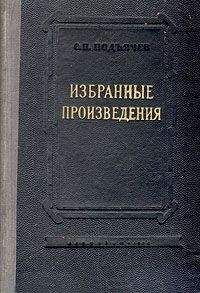У него была при трактире и лавка, которой заведывала жена его, такая же, как и он, поджарая и готовая за деньги продать душу.
В лавке этой обмеривали, обвешивали, «всучали» втридорога самый дешевый и дрянной товаришко. Редкий из покупателей не был должен в эту лавку. Редко кто мог постоянно брать «на чистые деньги» и выбирать товар по желанию. Должники поневоле молчали и брали, что дают, выслушивая еще вдобавок попреки и ругательства.
Иван тоже был должен в лавку рубля два, и поэтому давно уже не был в трактире, куда ходил, бывало, почитать листок.
Листок этот, засаленный, измятый, он обыкновенно прочитывал весь с начала до конца и постоянно вслух, не стесняясь тем, есть или нет около него слушатели. Он с одинаковым интересом читал своим монотонно-глухим голосом и хронику, и думские отчеты, и объявления.
Плохо знавший грамоту трактирщик часто садился около него и, наклонив немного на бок голову и глядя исподлобья своими волчьими глазами, внимательно слушал, интересуясь больше всего «почем? как цена?» да еще Думой.
Дума, впрочем, интересовала его не тем, что там говорилось и делалось (на это он давно махнул рукой), а тем, «за что люди такие деньги получают?» Он никак не мог примириться с тем, что депутатам платят по десять рублей в день.
— За что? — спрашивал он. — А?.. Скажи ты мне на милость, за что? За каки дела, а?.. Десять целковых на день, а!.. Уму надыть рехнуться… Вот бы меня туды — нажил бы копейку!.. Десять целковых, а!.. Сидит, дурак, с позволенья сказать, трет своей н-естоящей-то головой кресло, молчит, слова сказать боится, рта разинуть, а ему за это красная… Грязной бы метлой оттуда, ей-богу! Дума, хы!.. На кой она?.. Кака от нее польза? С Думой ли, без Думы ли — жизнь наша все одна, перемен нету.
И, рассердившись и «кидая» по сторонам глазами, сейчас же переходил на свой любимый предмет:
— Думщики-выдумщики! Вот тоже взять казенку эту, чтоб она провалилась в преисподнюю вместе с тем, кто ее и выдумал-то! Кака от нее, скажи ты мне на милость, тоже польза, а? Насмешка над народом, боле никаких!.. Жри, как сукин сын, на улице из горлышка за свои за кровные-то!.. Придет праздничек христов — заперто. Где бы, глядишь, выпил на досуге для праздника, ан нет — тпрусь, бычок, а то продам — заперто! А бывалочка-то, а? Пришел эта, сел за стол, все честь-честью, не по-собачьи, не украдкой, выпил, закусил, чайку попил, посидел… Любота, глядишь, как время-то провели!.. А теперича… тьфу! Глотнет из горлышка украдкой, аки вор какой, очумеет, лезет на стену… А, да что уж говорить-то, дери их чорт!..
Сам Иван пил водку редко и умеренно. Делал он так не потому, что она ему не нравилась, а потому, что действовала на него как-то не так, как на других, а совсем иначе. Из кроткого, смирного, не любившего много говорить человека он делался зверем, начинал кричать, ругаться, приставать ко всякому, лезть туда, куда в трезвом виде его нельзя было затащить насильно, а проснувшись утром, ничего не помнил и испытывал большую душевную муку и стыд, когда ему, трезвому, рассказывали про его безобразия. Дня два-три он стыдился и показываться на улицу, думая, что все глядят на него, говорят про него и осуждают.
Несколько раз в душе он давал себе слово не пить вовсе, но не сдерживал слова: хотя и редко, но «ошибался», и еще больше после этого страдал.
На него по временам как-то неожиданно, ни с того ни с чего, как он сам выражался, «накатывало» что-то такое, чего он не мог объяснить… Какая-то не скука, а что-то гораздо худшее — невыносимая душевная боль, от которой все, начиная с самого себя, казалось противным, чужим и ненужным. В это время он ходил, как помешанный, «очумелый», как говорила жена, и готов был наложить на себя руки…
Стоя на крыльце, слыша сквозь стену, как дома после его ухода еще пуще начали ругаться и кричать бабы, бесцельно поглядывая по сторонам, не зная, куда итти, Иван вдруг почувствовал, что к нему «подкатывает». Он испугался и, желая ободрить себя, встряхнулся, повел плечами, точно желая сбросить что-то, и проговорил:
— Чего это я на себя напускаю-то?.. Авось, чай, никого не убил, не украл… Чего всамделе?.. Пойду вот к куму, посижу, поговорю, а завтра, бог даст, за работу возьмусь… дровишки в город свезу… дурь-то, глядишь, и сойдет… Пойду к куму.
Он спустился с крыльца и, пройдя по тропинке на дорогу, отправился по ней вдоль села в гору, туда, где были трактир, казенка, волость и школа.
Кум жил неподалеку от школы. Изба его — старая, черная, обложенная на зиму для тепла осокой — стояла рядом с небольшим, недавно построенным, крытым железом домиком, в котором проживал вдвоем с женой разбогатевший в Москве и теперь приехавший «на спокой» к себе на родину мужик Семен Филатыч Шмаков.
Этот Семен Филатыч от безделья и имея деньги «пил мертвой чашей». Иван был «вхож» к нему и, когда Семен Филатыч бывал в своем виде (что, впрочем, случалось редко), подолгу и по душам беседовал с ним…
«Посижу вот у кума, — подумал Иван, проходя мимо домика, на подоконниках которого виднелись горшки с геранью и висели кисейные занавески, — зайду сюды… давно не был…»
Поровнявшись с избой кума, он свернул с дороги и по тропинке прошел к воротам, выходившим сбоку на улицу. Толкнув калитку, он вошел сначала на низкий, полутемный двор, а затем по ступенькам на мост и отворил дверь в избу.
— Ишь ты, со свету-то не видать ничего! — сказал он. — Живы ли вы тут? Здорово живете, с праздником! А где ж кум-то?..
— Вон он на печке… возьми его! — сердито и неохотно ответила кормившая грудью ребенка худощавая, с тонкими губами, некрасивая баба.
— Ты, что ль, кум? — раздался с печки голос.
— Я, с праздничком!
— Спасибо… И тебя также.
— У кого-нибудь праздник, — сказала баба. — Люди празднуют, а у нас все одно, все горе да забота… Не прохлебаешь!..
Она подхватила на руки насосавшегося ребенка и положила его в качку.
— У нас все одно, — повторила она, — не до праздников… Живем, как оглашенные, просвету себе не видим.
— Что такое? — спросил Иван — Аль что вышло?..
Баба промолчала и сердито начала качать качку так, что ребенок стал в ней подскакивать и громко закричал.
В это время с печки спустился хозяин, Терентий, не старый еще, но какой-то общипанный мужик, с выражением не то испуга, не то глупости на лице.
— Здорово, кум! — сказал он осипшим голосом. — Что скажешь хорошенького?.. Садись… А у меня, друг, опять не слава богу.
— Что такое?..
— Да что, родной, с коровой что-то попритчилось… третьи сутки пошли, не пьет, не ест… аки стень стала… щепа!.. Спаси бог, боюсь, не издохла бы, вон как надысь у Антохи… Что станешь тоды делать! Петля… зарез!..
— С чего ж это она? — спросил Иван.
— А бог е знает, — вступилась в разговор баба, — все была ничего, все веселая, а тут на поди, сразу, точно кто напустил, ей-богу!
— Думаю, не мышино ли гнездо съела, — сказал Терентий. — А боле-то с чего ж ей?..
— Ты к ветирану съездил бы в город, — сказал Иван, — привез бы его, а то, спаси бог, всамделе издохнет… беда!
— Ну его, твоего ветирана-то, — сказал кум и махнул рукой, — знаю… ну его! Привези его, а он дорогой, господи благослови, налакается, пьянее вина будет… его надыть лечить, а не ему!..
— Так как же быть-то?
— Воля божья!.. Мазал я ей язык и в глотку вливал дегтю чистого… думал, не оттянет ли, мол… Нет, гляжу, все в одном положении, нету легше. К бабушке вон она вечор ходила… Та, говорит, ишь, быдто с глазу… сглазил недобрый человек по ненависти, ишь… Кто их знает, может, и взаправду.
— Ну, это пустое, — сказал Иван. — Заболела, да и все, мало ли бывает?.. Бог даст, поправится.
— Не жрет ничего… хлеба давал — не берет, рыло воротит, на дух не надо… Ты пойдем-кась, взглянь, что с ней делается… Пойдем-кась, посмотри. Стень одна от нее осталась… устав один, — повторил он, надевая какую-то куртушку. — Не встать ей… не подняться!.. Пойдем-кась, погляди, может, ты что не присоветаешь ли…
Они вышли из избы на двор. Вслед за ними, бросив ребенка, вышла и баба.
Корова помещалась в самом заднем углу двора, в обгороженном слегами месте.
Когда мужики подошли, она лежала, уткнувшись мордой в навоз, и тяжело и редко сопела.
Коровенка была малорослая, горбатая, заморенная — «кожа да кости».
Кум перелез через слеги и, нагнувшись, погладил ее за ушами. Корова не сделала ни одного движения.
— Что, матушка, а? Что ты?… Встань, эвася! Что это ты? Ну, ну, поднимайся! — говорил он, лаская ее…
— Нет уж, видно, не встанет, — сказала баба, — нет уж.
Она заплакала вдруг жалобно и горько.
— Стельна она… телиться ей скоро, — сказала она, плача. — Ан вот!
Между тем кум обошел корову кругом и, взяв ее за хвост начал поднимать.
— Но, матушка, встань, подымайся!.. Да но, господь с тобой!.. Что это ты, Христос с тобой, а?..