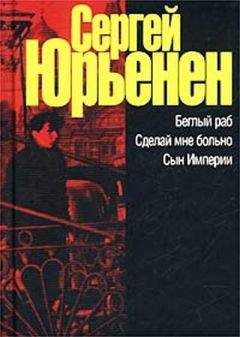Пан или пропал?
Париж иль Потьма?
2.
За дверью стояла Бернадетт Мацкевич.
Свежий номер "Либерасьон" вывернут наружу (материалом о театре жестокости Арто) и прижат ремешком сумки к чёрной коже. Под курткой с погончиками, шипами, молниями и свисающей пряжкой белоснежная майка впихана в джинсы, поверх которых сапоги. Такой она пришла.
Без сына.
И на высоких каблуках.
Алексей сделал шаг назад.
Бернадетт отдула свежевымытую прядь. Скулы её алели. Прекрасно зная, где сейчас Констанс, она спросила:
- Ты один?
Ответило ей эхо запустения. Тени жалюзи исполосовали её на пороге закуренной комнаты, где энергично смятые листы отбрасывались на пол. На столе гудела Ай-Би-Эм, за корпус которой он для упора взялся.
- Что ты делаешь?
- Бранлирую?.
Оглянувшись, Бернадетт села на тахту и, расставив ноги, вынула из сумки "Никон" с навинченным объективом. Сначала она была в группускуле "Рево", потом в феминизме, который потребовал от неё невозможного, а теперь решила начать карьеру фоторепортёра.
- Продолжай...
- Хочешь снимать меня?
- Тебе помешает?
- Нет, но... Почему вдруг я?
- Потому что, - сказала Бернадетт, - я верю.
- А Люсьен?
- Давай, - нахмурилась она. - Не обращай внимания...
В перспективе финала Алексей был не в лучшей форме. После того, как с криком: "Это мой последний шанс!" Констанс увезла девочку к матери и улетела в Лондон, он выключал машинку только, когда в дверь начинали ломиться соседи. Джинсы протёрлись, фланелевая роба для джогинга впитала марафонский пот, щетина перешла в бороду. Но Бернадетт хотела его именно таким - кружа, выгибаясь, опускаясь на колено и садясь на корточки с упором в стену. Он перестал реагировать на фотовыстрелы и втянулся вглубь страницы. Опомнился он только, когда услышал звук "зиппера". За спиной у него Бернадетт снимала джинсы вместе с трусами и сапогами, а причинное место было выбрито и припудренно.
- Les morpillons2, - пояснила она без улыбки. - Люсьен подхватил у малолетки.
В куртке и майке она поднялась - высокая и босиком.
Он с лязгом поднял жалюзи и распахнул окно.
Бетонные дома предместья расстилались до горизонта, за который он мечтал вырваться с помощью этого романа. Там, за горизонтом, был Париж. Он вдыхал полной грудью, слыша, как по пути из ванной она волочит свою куртку, которую, увидев его, уронила на пол:
- Что это значит?
Он взял её за сильные плечи:
- Ecoute...*
Отбросив его руки, она сорвала с бёдер полотенце и стала одеваться, обламывая ногти и опустив голову. Вбила ноги в сапоги и вышла, тут же вернувшись за "Никоном".
- Всё равно! - Сверкнув глазами, она подняла камеру за ремешок. - Ты у меня внутри.
- Бернадетт...
- Надеюсь, плёнка не пропадёт впустую.
И ушла.
3.
В кафе на площади Биржи, несмотря на жару, Констанс заказала чай с молоком и вынула пачку английских с ментолом.
Люсьен вышел из Агенства с парой сослуживцев, махнул им и бросился к ней через улицу - руки в карманах лётной кожанки, палевые джинсы, светлые усы, запавшие глаза.
- Са ва? - притёрся он шершаво, упал в плетёное кресло и повернулся в сторону уходящих коллег. - Соавторы мои. Мы с ними polar* решили написать. Глобальный - от Ирландии до Индонезии. С говном смешаем ЦРУ и КГБ. Бестселлер будет намбер уан. Один материалы собирает, другой отвечает за сюжет...
- А ты?
- Я, как всегда... За стиль.
- Симпатичные.
- Пошли на рю Блондель. *
- Что, успевают в перерыв?
- И даже пообедать после. А между тем, женатики. Тогда как я храню верность неизвестно почему.
- То есть?
Люсьен заказал "как обычно" и, поскольку бросил курить, взял сигарету из ее пачки и щёлкнул её зажигалкой.
- Сбежала мадам Мацкевич.
- Бернадетт?
- Главное, именно когда я решил проституировать перо, чтобы заработать суке миллион.
На мрамор сбросили картонку, фужер demi* был запотевшим.
- Куда?
Люсьен выпил половину залпом и утёр усы.
- Я откуда знаю... В Триест как будто.
- Это в Югославии?
- Скорей в Италии.
- Триест?
- Тебя удивляет?
- Далеко...
- Твой Лондон был не ближе. Или ты думаешь, в Триесте не ебутся?
- Не знаю. Про Триест я вообще не думала.
- Вот как?
- Ни разу в жизни.
- А напрасно. Впрочем, я тоже. Только вчера задумался. Когда она мне позвонила с Лионского вокзала. Я даже взглянул в энциклопедию прелюбопытный город.
- А как же Феликс?
- Что Феликс? С Феликсом в порядке. Отвёз в школу, по пути с работы заберу.
- Она сказала, когда вернётся?
- Сказала, что сама не знает. И вернётся ли? Впрочем, спятила как будто не совсем. Предупредила все-таки Мартин. Это тёща моя будет. Из анархистов старого закала. Приезжает вечером, но через пару дней, боюсь, тесть-поляк её востребует обратно. Вот так, Констанс. Вместо полара с тёщей буду ночи коротать. Воспользуюсь этим, чтобы как можно больше узнать о тяжёлом детстве моей жены, которое и довело нас с ней до Триеста. Где сука ловит кайф.
- Кто там у неё?
- Откуда я знаю... - Прищёлкнув пальцами, он повторил заказ. - Судя по обрывкам с вокзала, какой-то славянин.
- Не итальянец?
- Нет. Юго?.
- Триест же в Италии?
- Ха! Не говоря про Триест, их и у нас навалом. Поляки, югославы, русские даже - как твой романист. Какое-то нашествие, нет? Варваров на цивилизованный мир. Могла бы и в Париже найти: это ты верно. Жаль, не рекомендовал ей одного - мы его знаем. Примарный антикоммунист, бит?, хотя вряд ли скорострельный, но, уж, наверно, до колена. Нет? А ты не смейся: он с ней, возможно, переспал.
- С кем?
- С кем же... С Бернадетт моей. Случайно не делился?
Констанс мотнула головой.
- Тем более все основания подозревать. Варвары, они такие. Предпочитают делать и молчать. Та, кстати, тоже отмалчивается по его поводу - мадам Мацкевич. Тем самым подтверждая свою природу. А знаешь? Давай и мы переспим.
- Зачем?
- Чтоб в догадках не теряться.
- Ты серьёзно?
- Вполне. А им не скажем. Варварам.
- Если переспим, надо сказать.
- Констанс, я уверяю... Ни в коем случае. За мной ведь очень драматичный опыт. А всё из-за чего? Я говорил. Делился. Хотел быть честным. Невермор!?
- У меня другая концепция измены.
- Концепции у варваров, а мы цивилизованные люди. Ты скажешь, а он меня, пожалуй, и зарубит. Топором! Согласно тёмной какой-нибудь концепции а ля, не знаю, Достоевский Фёдор Николаевич.
- Михайлович.
- Тем более... - Люсьен допил второе пиво. - Подумай, Констанс. Надумаешь, звони. А я пошёл.
- На рю Блондель?
- Тошнит при от одной мысли... К дисплею своему.
- Что, кстати, в мире?
- Провались он пропадом... Всё то же. Нацисты поднимают голову повсюду. Пойду. Или ты хочешь пообедать?
- Слишком жарко.
- Не говори. Амбулия, апатия, и утром не стоял.
- Съезди куда-нибудь.
- Куда? Разве что в Триест. И зарубить обоих. Или присоединиться третьим.
- Просто проветриться.
- С тобой?
- Without women *, - ответила Констанс. - И друга своего возьми. А то он мне на нервы действует последнее время.
- Что-нибудь случилось?
- Mid-age crisis*. А так ничего. Быт, осложнённый полярностью культур.
- Как можно с русским жить, не понимаю.
- Дело не в том, что русский. Экс-советский! - ответила Констанс. Без предрассудков, но и без устоев.
- В чём, наверное, и шарм?
- Не знаю. Иногда кажется, сама структура личности разрушена. Ни ценностей, ни традиций. Одна только жажда новизны.
- Слишком ты умная, Констанс. А жаль... - Люсьен погасил сигарету, медный браслет на запястье предохранял его от излучения отдела новостей. Проветриться, говоришь? Не знаю. Если belle-mere* отпустит...
4.
Осознав, что выбравший свободу советский его герой не способен полюбить Запад, Алексей забуксовал.
Он сидел за своей огромной - только плечами с ней мериться - пишущей машиной, звукоизолировавшись от Европы, данной в ощущениях, с помощью губчатых американских затычек, поверх которых он надевал ещё и наушники для стрельбы, тоже штатовские. На нём была чёрная майка и трусы типа "советские семейные" - отчасти дань ностальгии, отчасти моде, в которую они, осмеянные столько раз, вошли по причинам сексуальной экологии.
Осознал неспособность своего героя Алексей ещё ночью, предварительно заставив его исполнить с героиней (символической Европой) каннилингус длиной в три страницы. При свете дня было ясно, что перебор и порнография. Впрочем, хотя бы в этом он ещё сохранял национальное своеобразие переходить черту. Но что за ней открылось? Что нет любви. И, стало быть, романа. Весь труд насмарку, ибо тщетны усилия... Был такой романс, но слов уже не вспомнить...
Что нет любви...Та-та та-та-та!
Дым сигареты уплывал в окно - в послеполуденное удушье двора средневекового квартала Марэ.
Рыжий кот продвигался по жестяной крыше пристройки к окну мансарды, откуда даже сквозь его звукозащиту всю минувшую ночь прорывались брутальные рыки анальной любви.