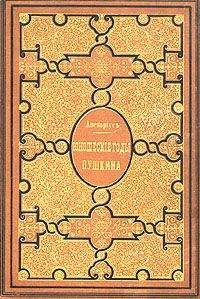В ответ на неделикатный смех племянника Василий Львович только пожал плечами и, достав из кармана серебряную с финифтью табакерку, взял кончиками пальцев щепотку табаку.
— Да ведь я, дядя, по вашим же стопам… — начал Александр.
— То есть, куда конь с копытом, туда и рак с клешней? — с достоинством отозвался дядя и, не спеша, угостил табаком свой крупный, загнутый на одну сторону нос. — Тягаться с дядей не тебе, молокососу. Заслуги мои на российском Парнасе изрядно известны. Поэма моя в несчетных списках ходит из конца в конец по всей матушке-России. Послания мои, басни, экспромты всеми и каждым заучиваются наизусть. А почему? — Потому, что до такой тонкой сатиры, как моя, не дошел ни Крылов, ни даже достоуважаемый наш друг-поэт и министр Иван Игнатович.[3]
Вы вспомните о том, что первый, может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить,
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудяся над словами,
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом![4][5]
Убил наповал, как вы, друзья мои, сейчас и убедитесь. Эй, Игнатий!
Из дверей столовой высунулась седовласая голова Игнатия.
— Самовар, сударь, подан.
— Дело теперь не в самоваре! Подай-ка сюда корректуру.
— Я отдал ее сейчас рассыльному.
— Врешь ведь?
— Зачем мне врать? Пожалуйте, сударь, чай заварить. Всегда за разговором забудете…
И голова Игнатия уже скрылась за дверью.
— Врет! Ей-Богу, врет, — вполголоса заметил Василий Львович. — Ну да Господь с ним! Итак, припомним. Внимания, государи мои!
Он картинно отставил ногу, выпятил грудь, простер вперед правую руку и готов был уже продолжать декламировать; но Тургенев взглянул на часы и остановил его за руку.
— Уже половина девятого, душа моя. А в десять ведь экзамен.
— Первая перекличка. Ты выслушай только пару строф. Шишков, как знаешь, укорял меня в том, что Париж я знаю будто бы только по закоулкам. Ха! А я ему вот что на это:
Не улицы одне, не площади, не домы, —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы:
Они свидетели, что я в земле чужой
Гордился русским быть и русский был прямой…
— И так далее, — прервал Тургенев. — Я это уж слышал.
— Нет, уж извини. До сих пор никто еще не удостоился…
— Ну так что-нибудь в том же роде.
— Да это легкое подражание, — неосторожно ввернул маленький Александр.
— Подражание?! — вскинулся на него дядя. — Кому?
— Да я только так, дяденька… Может быть, это случайное совпадение: великие умы сходятся…
— Нет, голубчик, не отвиливай! Говори: кому я подражал? Ну!
— Если вы, дядя, уж непременно требуете… Помните, у Фонвизина, в его "Послании к Шумилову, Ваньке и Петрушке", сказано:
Москва и Петербург довольно мне знакомы;
Я знаю в них почти все улицы и домы…
Далее продолжать ему уж не пришлось. Задетый за живое, маститый стихотворец поймал племянника за ухо и приподнял его так с кровати. Но тот, как был — неодетый, необутый, — тут же бросился к дяде, обвил его руками и вихрем закружился с ним по комнате, напевая модный в то время вальс.
— Оставь!.. Сумасшедший!.. — пыхтел Василий Львович, тщательно выбиваясь из цепких объятий шалуна.
— А сердиться не будете? — спрашивал на лету племянник.
— Не буду… отпусти только душу на покаянье!
Александр разнял руки, и толстяк мешком повалился в ближнее кресло.
— Уф! Совсем измучил, злодей… И табак-то просыпал… и сорочку измял…
— Новую наденете.
— Ну да, как же! А вот тебе так в самом деле пора одеваться.
— Да, Александр, поторопись, — подтвердил Тургенев, — а то как раз опоздаешь.
Александр беспрекословно принялся за свой туалет.
— А поэта из тебя все-таки никогда не выйдет! — последним залпом выпалил в него дядя.
— Только еще не признан, как вы, — отшутился мальчик — У вас, говорите вы, есть своя поэма? И у меня есть своя: "La Toliade".
— За которую тебе учитель Русло уши надрал?
— Из зависти, дядя, чисто из зависти, потому что стихи мои были лучше его стихов. Но чего у вас нет, а у меня есть, — это знаменитая комедия "L'Escamoteur", которую я сам же и представлял.
— И которую единственная твоя публика — сестрица твоя Оля — нещадно освистала?
— Нет, Василий Львович, — вмешался тут Тургенев, — ты, право, слишком требователен. От 12-летнего мальчика разве можно ожидать бессмертных произведений? Но стихи Александра хоть куда.
— Да какие стихи? — французские; а кто же теперь не пишет гладких французских стихов?
— Нет, в нем горит, кажется, и настоящий поэтический огонек. Я так теперь вижу такую картину: сам ты, Василий Львович, взмостился на стул среди зала и вдохновенно декламируешь что-то. Со всех сторон плотно обступили тебя взрослые слушатели; а к самому стулу твоему прижался вот этот мальчуган и, бледный, взволнованный, не смея дохнуть, глаз с тебя не сводит, ловит каждое твое слово…
От такой поддержки со стороны неизменного его защитника, Тургенева, щеки мальчика вспыхнули, глаза заблистали.
— Да, есть люди, которые и теперь признают в моих сочинениях некоторый талант! — не без гордости заявил он.
— Вот как! — усмехнулся дядя. — Кто ж эти ценители? Такие же малолетки?
— Нет, взрослые… барышни…
— А! Барышни. Да, действительно, это первые судьи. Кто же именно?
— Да все наши московские знакомые… Помните, перед самым отъездом из Москвы мы с вами провели последний вечер у Воронцовых? Ну так вот, все барышни, что были там, окружили меня и стали наперерыв просить написать каждой из них в альбом хоть какой-нибудь стишок.
— И ты написал?
— Написал.
— Каждой?
— Каждой.
— Поздравляю — только не их. Впрочем, до сих пор ты пишешь одни французские вирши; поэтому каковы бы они ни были, русского стихотворца из тебя никогда не выйдет.
— А вот увидим! Хотите, дядя, об заклад побиться?
— Поди ты со своим закладом! Однако, ты никак и оделся, и умылся? Идем же теперь чай пить. И ты, Александр Иваныч, конечно, не откажешься от стаканчика?
Тургенев взялся за шляпу.
— Спасибо, брат, — сказал он, — я дома уж напился. Смотрите, господа, не замешкайтесь. Ужо заеду узнать о результате.
И добрый гений своих друзей и знакомых исчез, чтобы лететь далее — благодетельствовать другим.
Глава II
В ОЖИДАНИИ ЭКЗАМЕНА
Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
"Полтава"
Приемный экзамен должен был происходить на квартире министра народного просвещения, графа Алексея Кирилловича Разумовского. Пробило уже девять, когда Пушкины, дядя и племянник, снимали свое верхнее платье в швейцарской министра.
— Ну что, мой друг, каково тебе? — спросил Василий Львович, полузаботливо, полушутливо заглядывая в лицо племянника. — Забила, чай, боевая лихорадка?
— Ничуть, — отвечал тот, отворачиваясь.
— А что же ты так ежишься? Дай-ка сюда руку — пульс пощупать.
— Ах, перестаньте, дядя! Пойдемте…
— Ага! Знает кошка, чье мясо съела.
Они стали подниматься по широкой, устланной красным ковром лестнице с колоннами. На первой же площадке попалась им небольшая группа: присевший отдохнуть на высокий ясеневый стул белый, как лунь, старичок-адмирал, а подле него два мальчика в какой-то полукадетской форме — в черных куртках со стоячими воротниками и с металлическими пуговицами. Взоры обоих кадетиков были устремлены на приближавшегося к ним Александра, и он, с непривычной ему застенчивостью, отвел в сторону глаза и прошмыгнул мимо. Но на повороте лестницы до него явственно донеслось снизу: "Тоже, видно, экзаменоваться идет", — и он оглянулся; глаза его встретились с глазами одного из мальчиков. Оба они смущенно улыбнулись, и Пушкин ускоренным шагом, почти бегом, стал опять подниматься по лестнице и скрылся за поворотом.
Но от этой улыбки будущего товарища сердце в груди его, как пташка, встрепенулось. Ему стало вдруг так весело и легко, точно он предчувствовал, что вот кто будет ему на много лет лучшим другом.
В большой и светлой приемной министра записавшиеся к экзамену мальчики были уже почти в полном сборе. Каждого из них, разумеется, сопровождал какой-нибудь родственник или воспитатель. Василий Львович, обведя присутствующих испытующим оком, направился прямо к молодому сановитому генералу в аксельбантах, которого он хотя и видел впервые, но в котором сразу узнал своего брата — человека высшего круга. Подсев к генералу, он не замедлил завязать с ним оживленную беседу на французском языке и, казалось, забыл уже о существовании племянника.