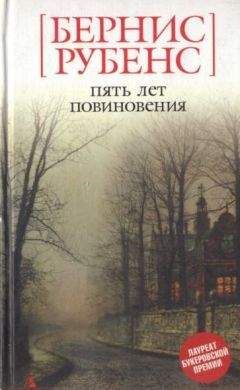внутри подушки, живые и, следовательно, уязвимые. Он взял из шкафчика пузырек «Деттола» [3] и вылил на себя. Он готов был смириться с
их присутствием на полу и подоконниках, но на теле — никогда. Придется
им указать
их место. Уж это-то в его власти. Так почему же тогда, спросил он себя, он не в силах стереть
их с пола, как собирался стереть
их с собственного тела. Может,
их и правда не существует. В зеркале над умывальником он поймал тень собственного лица. Он не узнал смотревшего на него отражения, погрозил ему кулаком, крикнул: «С ума ты сходишь, что ли?» — и, всхлипывая, поплелся обратно в комнату, где ждали
они.
Он выключил свет, обогнул кровать, пробираясь на ощупь к камину, возле которого они обычно кишели. Взял с каминной полки фонарик, посветил наискось, в угол комнаты. В ожидании чесался свободной рукой. Он надеялся, что от их укусов остались шрамы. Такое доказательство отец не сможет опровергнуть. Вонь била в нос, но он упивался ею. Это ведь тоже доказательство. Утром отец придет его будить и непременно ее заметит. А до той поры придется сидеть и наблюдать за ними, пытаясь побороть страх.
Они не заставили его ждать, потому что он был более чем готов. Вереницей выползли на луч света и в полосе его остановились, собрались, зашевелились. Стая извивающихся серебристых рыбок, которых он на своей памяти видел ежедневно и еженощно (а те дни и ночи, что он позабыл, стерло его безумие). Он перевел луч света вправо, подстрекая насекомых вновь замереть. Подобным манером Норман Цвек водил свое стадо вкруг камина в яснеющей темноте, вскоре отменившей необходимость в фонарике. А потом они вдруг исчезли. Норман свернулся калачиком, уставился в пустоту, почесываясь, принюхиваясь, стараясь удержать их запах, их ощущение, высматривая их следы на истертом коврике у камина. Он всегда боялся этого часа, когда свет вытеснял их во мрак, оставляя ему лишь воспоминание о том, как они ползли по полу. Теперь-то страх захватил его целиком, как и кошмарный вопрос, который Норман бросил человеку в зеркале в ванной. Он наблюдал, как шарики пота растут и лопаются на его руках и ногах. Он упивался страхом, который плавил его внутренности, прохаживался по бедрам, гнездился в изгибе колен. «Они здесь, — шептал он себе, — я вижу их, я чувствую их запах, я соскребаю их со своего тела». Он обхватил туловище руками, обнимая свое отчаяние. А потом с уверенностью, доступной лишь полоумным, крикнул во всё горло:
— Я знаю, что они здесь!
Он заполз в изножье кровати, обтирая зудящую плоть о шершавое одеяло. Когда наступило утро, он уже спал, и знай отец, как сын провел ночь, то не стал бы его будить.
Но в восемь часов рабби Цвек, по своему обыкновению, вошел в комнату Нормана, чтобы его разбудить. Он замялся на пороге, увидев, что сын съежился в изножье кровати, но не позволил этой позе ослабить свою решимость. Сын спал беспокойно, вероятно, ему приснился дурной сон, время от времени такое бывает с каждым. И даже когда в нос ударил запах «Деттола», рабби Цвек постарался отогнать привычные предчувствия. Легонько похлопал сына по плечу.
— Норман, — сказал он, — уже восемь часов.
Норман откликнулся немедленно и, подняв голову, заметил, что отец принюхивается. Не помня себя от благодарности, Норман спрыгнул с кровати.
— Ты тоже их чувствуешь? — спросил он.
Рабби Цвек побледнел. Ну вот, опять началось. Пятый срыв менее чем за год.
— «Деттол» я чувствую, — раздраженно выкрикнул он. — Вот что я чувствую. «Деттол». — Тревога взорвалась в нем машинальной злостью на полоумного. — Ничем тут не пахнет, — снова завопил он, — кроме «Деттола». Поднимайся, мешигине [4]. Завтрак готов.
Рабби Цвек хлопнул дверью. Если Норман снова сорвется, ему этого точно не пережить. Он услышал, как в двери комнаты сына повернулся ключ, и этот звук вызвал у него отвращение. Стоя на пороге кухни, рабби с содроганием думал, до чего же он одинок, но то, что сын отгородился от всех закрытой дверью, мучило его куда больше.
Норман дождался, пока стихнет шарканье отцовских шлепанцев. Потом опустился на колени и потянулся за ежедневной дозой к неприколоченной половице под кроватью. Под половицу был засунут старый кардиган, из его складок Норман извлек большой пузырек. Поднес к глазам, оценил, сколько осталось. Испугался, что так мало. Он купил пузырек всего лишь неделю назад, и при мысли о том, что придется снова искать деньги, его охватила паника. Он высыпал горсть на ладонь, вспоминая былые дни, когда, робея, принимал одну-единственную пилюлю: теперь казалось, будто с тех пор минуло много лет. Он поспешно сунул пилюли в рот, одновременно закрутив крышку на пузырьке. Уложил половицу на место и, покачиваясь, встал на ноги. Потом бесшумно отпер замок и открыл дверь. Услышал, как отец с сестрой перешептываются на кухне. Они считают его сумасшедшим. Ох, только не это. У них в семье такого просто не может быть. Он всего лишь дурачится. От нечего делать разбивает им сердце. Страдает не он. А они.
— Серебристые рыбки, — бормотал его отец, — опять его серебристые рыбки. Где это слыхано, чтобы рыбы ползали по ковру? Вода им нужна. Но нет. Рыбки моего сына, ох и умный у меня сын, могут жить на коврах, в подушках, на простынях. Насекомые, так он их называет. Рыбы есть рыбы, — крикнул он дочери, точно она возражала. — На ковре они, видишь ли. Гм.
— Ради всего святого, закрой дверь, — услышал он шепот Беллы и понял, что они сговариваются против него. Он даже не удосужился ни умыться, ни переодеться. Ему хотелось сорвать их заговор. Он накинул халат и на цыпочках прокрался в кухню. Резко распахнул дверь. Его сестра умолкла на полуслове, принялась хлопотать у стола, положила ему приборы. Он вошел, уселся, и она потянула носом.
— Ты тоже чувствуешь, чем пахнет? — со слабеющим оптимизмом спросил он.
— «Деттолом» пахнет, — вместо нее ответил отец.
— Они повсюду, — угрожающе произнес он. — И на мне сидят. Если вы их не видите, значит, вы слепые бесчувственные сволочи.
Галлюцинации Нормана всегда сопровождались грубыми выходками, но рабби Цвек никак не мог к этому привыкнуть. В редкие промежутки ясного сознания, когда между отцом и сыном устанавливались добрые отношения, рабби Цвек забывал грубость и агрессию Нормана, поэтому каждое новое их проявление поражало его как впервые. Он посмотрел на сына, заставил себя вспомнить, что тот рос добрым и послушным. Это не его