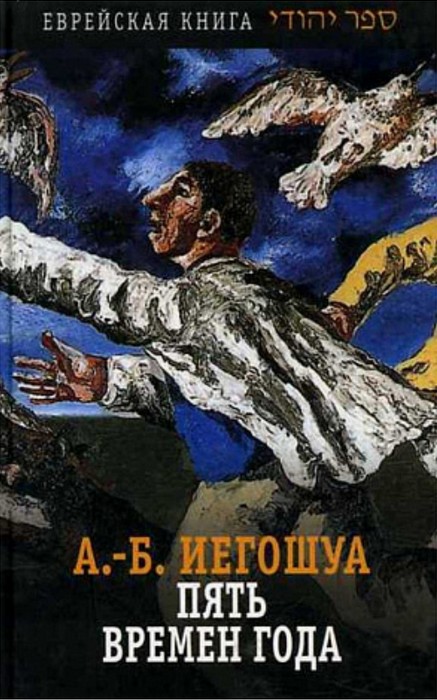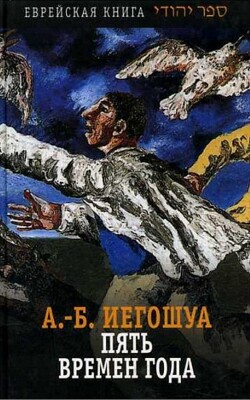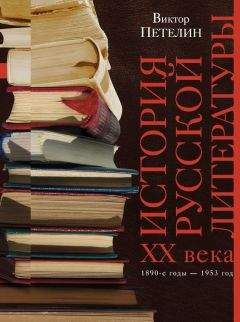и незнакомым, пусть даже и более тихим и простым, — вот так ему удалось в точности запомнить миг ее последнего вздоха, и теперь он мог, при желании, назвать и даже напеть его, воспроизведя определенные музыкальные звуки, и снова увидеть ее и себя в это их последнее мгновенье в глубокой ночной тишине. Он не знал, какая из этих звуковых волн, накатывающихся от изголовья кровати, сумела прорваться в ее умирающее сознание, не знал и не пытался узнать, слышала ли она что-нибудь вообще, — не сводя с нее взгляда, сжигаемый волнением и жалостью, он мчался, влекомый зовом мелодии, сквозь темный лес в тусклом свете зябкой и влажной зари, пролагая путь меж ветвями огромных деревьев в сторону ярко освещенной лощины, а может, ущелья, навстречу золотистой лани, гонимой этими отрывистыми звуками охотничьих рожков.
И именно в это мгновение ее дыхание окончательно прервалось. Он не прикоснулся к ней, боясь, что его прикосновение разбудит ее и причинит боль, но это был несомненно тот самый — тот последний миг, которого ей никогда уже не узнать, хотя среди всех мгновений в мире не было другого, которое принадлежало бы ей более, чем этот, предельно интимный и особенный миг, когда некая незримая рука поднялась и повелела: доселе! и ни шагу дальше! Он никогда не размышлял о загробной жизни или переселении душ и про себя был всегда благодарен ей за то, что она не завлекала его в такого рода мистику; врожденная бескомпромиссность и присущий ей интеллектуальный скепсис отметали прочь любую темную, иррациональную мысль; и ему было очень хорошо от того, что он был с ней сейчас наедине, предельно собранный, сосредоточенный и спокойный, и что рядом — никого, кто бы отвлекал его внимание и с кем пришлось бы делиться своими мыслями, а главное — ни врача, ни сестры, которые, вполне возможно, стали бы навязывать им какой-нибудь очередной новейший прибор или лекарство; он был здесь один, и все вокруг находилось в его распоряжении и власти — и свет, и звук, — и одна лишь смерть была рядом, та смерть, которую он порой представлял себе в виде железного ядра, черного шероховатого шара, что им давали когда-то в гимназии на уроках физкультуры, чтобы они толкнули его хоть на несколько метров, — та смерть, которая черным шероховатым шаром закатилась сюда уже несколько дней назад и притаилась молча под кроватью, то ли под каким-нибудь шкафом, а вот сейчас выпрямилась во весь свой рост и встала с ним рядом, и он с удивлением увидел, как эта смерть втискивается в ее тело и одновременно рвется из него наружу, и его охватило жгучее желание сделать так, чтобы ей не было больно, потому что все эти последние месяцы его главная обязанность состояла в том, чтобы облегчить ее боль, даже в это последнее мгновение, и для этого у него под рукой было превеликое множество всевозможных придумок и приспособлений — всякие рычаги, и рукоятки, и костыли, и инвалидное кресло, и тазы для обмывания, и вентилятор, и лекарства, и наркотики, и кислородная маска — целая маленькая больница уместилась в этой комнате, все, что может облегчить боль тела, чтобы душа могла уйти безболезненно и мягко.
Даже когда он сидел в министерстве за своим рабочим столом, даже когда он шел по улице — задумчиво, медленно и прямо, тело еще сильное, как в молодости, но в курчавых волосах уже поблескивает седина, — даже когда ел, или спал, или лежал, он все время думал о ее боли и о том, как эту боль облегчить и умерить, и с утра до вечера прислушивался к ее большому, изъеденному болезнью телу, покрытому шрамами от хирургических ножей, распухшему от наркотиков, прорастающему ядовитыми цветами метастазов, — телу, которое долгие недели подряд лежало на высокой больничной кровати специальной конструкции, со студенисто дрожащим водяным матрацем, — кровати, установленной в центре комнаты, словно какая-то огромная боевая колесница со всеми своими рычагами, решетками и колесиками, в надежде, что ее последнее путешествие свершится здесь, дома, и все, кто будет при этом — ее мать, ее дети, ее родственники и друзья, во главе с ним, Молхо, в роли главного распорядителя, — сумеют провести ее сквозь беснующуюся боль к покою и уверенности неизбежного конца. Пришлось убрать из комнаты их старую супружескую кровать и поставить для него другую — простую, узкую постель верного ординарца, — совсем рядом с ее гигантской колесницей, так что он лежал теперь как бы возле больной, но одновременно и много ниже, все время напряженно прислушиваясь к ней, готовый потягаться с любой ее болью, и сон его был словно мерное покачивание на волнах, в котором он забывался с такой же легкостью, как пробуждался снова, это был сон, который следил сам за собой, но не был лишен и сновидений, и даже в эту страшную ночь ему неожиданно приснилось, что он снова мальчик и кто-то свистит ему, разыскивая его то ли на улице, то ли в поле, она сама или кто-то, похожий на нее, и он тут же, по своему обыкновению, проснулся и услышал, что свист и впрямь продолжается, и испугался, и вскочил, и тогда понял, что это хрипит его умирающая жена.
2
На этот раз, однако, он не сделал ошибки и действовал продуманно и точно, сохраняя самообладание, опасаясь повторить то, что случилось три дня назад, когда он в самой середине ночи был разбужен точно таким же хрипом и, охваченный страшной тревогой, бросился ей на помощь, заговорил с ней, а когда она что-то пробормотала в ответ, приподнял ее на кровати, обнял, сильно встряхнул, чтобы разбудить совсем, дал ей чаю и даже немного вина и в довершение всего вызвонил старшего сына из его студенческой квартиры, так что ближе к утру они вдвоем помогли ей надеть очки, спуститься с кровати и вместе обмыли безгрудое тело, и вот так, с какой-то нерассуждающей силой, он вновь навязал ей жизнь, и на рассвете она уже сидела в кровати, опираясь на подушки и тяжело дыша, ошеломленная, бледная, растерянная, вполуха прислушиваясь к радионовостям и утренним радиомелодиям. Позже, когда ее мать и врачиха пришли с очередным визитом, он с гордостью рассказал им, что приключилось ночью, но, увидев, как они переменились в лице и умолкли, избегая его взгляда, понял, что они не видят смысла в этих его ночных усилиях.
Затем последовали два дня мучительных страданий, когда рассеянные крупицы отсроченной