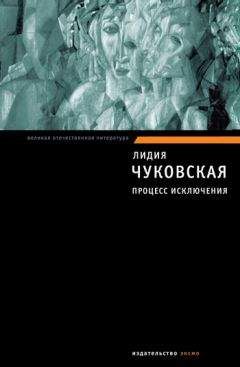перевернули Петрово нутро. Петр повинился перед Федосьей.
"Его пальцы, свертывавшие козью ножку, дрожали..." "Федосьюшка! сказал он глухо. - Виноват я! Прости меня, дурака. Не туда свернул маненечко. Старая меня на ум наставила".
Окончив, я долго сидела за столом, закрыв рукопись и разглядывая аккуратную папку. "Николай Билибин" написано было отчетливыми круглыми буквами. "Федосьина победа. Повесть".
Вот, что он писал здесь - с семи утра. Вот зачем он приехал сюда, в тишину. Вот какой памятник воздвиг он своему другу. Вот о чем хочет он рассказать Тоне и Лельке, Векслеру и Людмиле Павловне.
До сих пор мне случалось испытывать в жизни горе. Но стыд я испытала впервые.
Чувство стыда было такое сильное, что время остановилось. Как от счастья.
Шагов я не слышала. Раздался стук в дверь. Я знала, что это Билибин. Он всегда стучит легко, осторожно, самыми кончиками ногтей. Словно ходит на цыпочках.
Я не сразу отозвалась на стук. Надо было собраться с духом и с голосом.
- Войдите, - сказала я, наконец. - Садитесь, пожалуйста.
Я указала ему на стул по другую сторону стола. Всегда в этой комнате он сидел на маленькой скамеечке возле меня. Он удивился, но сел.
- Вы трус, - сказала я. - Нет, хуже: вы лжесвидетель. - Он начал приподыматься. - Вы лжец. "Ты не чеченец, ты старуха..."
Он поднялся, распрямляясь. Не спуская с меня глаз, он, не глядя, протянул руку к столу и нащупал папку.
- "Его пальцы, свертывавшие козью ножку, дрожали" - сказала я и тоже встала. - Все. Можете идти. Это все, что я могу сказать вам о вашей литературе... Прощайте. Почему у вас не хватило достоинства промолчать? Всего только промолчать? Ведь от вас никто этого не требовал... Неужели... из уважения к тем... кого вы засыпали землей... вы не могли как-нибудь иначе зарабатывать себе на хлеб с маслом?.. Чем-нибудь другим. Не лесом. Не шахтой. Не ребенком - тамошним. Не... заиканием вашего друга?
Он вышел.
... III 49 г.
Как мне вернуться в рощу - в ту, в какой я былa в первый день? В ту, благостную, одаряющую меня покоем? Теперь уже мне не за что ее благодарить.
Теперь я прошу ее, прошу, а она мне ничего не дает. Сегодня она вся в подмороженном алмазном снегу. Но чем-то я населила ее таким, что теперь она не утешает меня и в ней уже не живет тишина.
Чем-то я перед ней провинилась и она лишила меня своих утешений.
Теперь уже поздно каяться, звать ее на помощь Послезавтра я уезжаю.
Как прожить эти двое суток под одной крышей с Николаем Александровичем? Обедать, завтракать... А потом еще ехать вместе... Впрочем, он кажется болен.
Сегодня утром я вошла в столовую с бьющимся сердцем. Но за столом сидел один Сергей Дмитриевич. Билибина не было.
- Заболел опять наш уважаемый коллега, вы уже были у него? - спросил меня Сергей Дмитриевич. - Пойдете - передавайте привет. Я тоже пойду. С сердцем у него, сестра сказала, опять плохо.
- Вот как? Нет, я еще не была.
Я сегодня ходила гулять три раза. По 45 минут каждый раз. Точно. Не давая себе поблажки. По часам.
После обеда пошла навстречу Лельке. Она в эту пору, подбросив брата соседям, бегает на станцию за хлебом. Встретила, отняла у нее сумку, засунула туда пирожки, яблоки, шоколад, проводила почти до самой деревни.
- А в Москве река есть? - спрашивает Лелька.
- Есть. Москва-река. Глубокая.
- А вам там по кеих?
- Не знаю. В городе купаться не позволяют.
- А на кой тогда река?
Худющая, востроглазая, быстрая. Прячет под черный платок замерзшие красные руки.
- Вы скоро уедете в Москву?
- Скоро, Леленька, скоро.
- А меня возьмете?
Остановилась, дует на руки и смотрит на меня большими глазами.
- Ну что ты, Леля! Как же я тебя возьму. Ведь тут твоя мама. Она дочку не отдаст.
- Отдаст! Она скажет: "Едь, Ольга, едь! Больно ты мне нужна. Нечего на шее сидеть". А я вам все буду делать... Я и посуду мыть умею и банты наглаживать.
Стоит, смотрит на меня и с такой силой трет рукавом нос, словно хочет стереть его напрочь.
Я завязала на ней платок поаккуратней, присела на корточки и дыханием отогрела красные руки.
- Непременно пришлю тебе рукавички. Письма буду тебе писать. И книжку пришлю. Потом ты приедешь к нам погостить - ко мне и к Катеньке.
Я отдала ей сумку. Она повернулась и побежала к деревне - маленькое огородное чучело. Сумка била ее по ногам.
- А какую сказочку пришлете? Крылышко ясного сокола? И про дудку? крикнула она, обернувшись еще раз.
Мне хотелось догнать ее, перекрестить, прошептать над нею какое-нибудь заклинанье. "Господь с тобой". И я сказала самой себе потихоньку: "Беги, моя добрая царевна, я про тебя не забуду".
Пошла полем обратно и спустилась к ручью. И с ним ведь проститься надо. Он не замерз, воркует как голубь.
Вернувшись домой, я усадила себя за стол и заставила работать над переводом. В конце концов все зависит от воли. "Главное, держать себя с руками", говорила мне одна еврейская старушка в больнице... Заставила, но трудилась недолго. Потому что я вижу сквозь стены: по коридору, если пройти гостиную, есть комната, и в ней, на высоких подушках, лежит человек с синими губами и смотрит на дверь. От его двери до моей, я сосчитала однажды, девятнадцать шагов.
Но теперь они превратились в девятнадцать километров. Не менее. В 19 веков.
... III 49 г.
Завтра я уезжаю.
Другое время у меня в комнате от того, что завтра конец. Оно не тянется и не летит. Его просто нету. Оно выкачано, как бывает выкачан воздух.
Я сижу уже не в своей, а в чужой комнате. Это уже не мой долгожданный Дом, а просто номер гостиницы, в которой послезавтра будет жить кто-то другой. И занавески уже ничьи - не мои - чужие. Это просто уже небольшая зала ожидания, ну, скажем, на вокзале.
Сегодня мне не хочется ни гулять, ни работать, ни вылезать из халата к обеду. Так бы и лежала на диване безо всякого дела. Что уж тут! Все равно завтра конец... Однако, был и обед, и мертвый час, и светящаяся щель под дверью и заря на своем месте за окном, - все, как двадцать пять раз. И даже Билибина я увидала опять.
Он меня не видел, а я его видела. Утром я гуляла. Отправилась недалеко, в елки. Там мы редко бывали вместе... Села на сырой, полуоттаявший пень, натянула на колени полы шубы. Он шел по тропинке - один, с шапкой в кармане, подставив лицо встречному теплому ветру. Сюда? Увидел меня? Сердце сжалось от волнения, а может быть, от счастья. Нет, не сюда. Нас разделяли густые широкие ели. Он шел медленно, трудно, иногда отдирая от стволов мох и растирая его в ладонях. До мельчайших подробностей на ярком дневном свету было мне видно его лицо: желтоглазое, с синеватыми губами, с темной сетью морщин. Ветер шевелил легкие волосы над высоким лбом - как тогда, на поляне - и я вдруг вспомнила: в день пожара он тронул моей рукой свою голову: какие у него мягкие волосы! как у ребенка! И как легко сейчас их перебирает ветер. Он шел, о чем-то думая, машинально растирая мох между ладоней, и вдруг остановился. Большая рука нашарила на груди пуговицу, расстегнула ее, он достал из внутреннего кармана - я знала, что! нитроглицерин! - булавкой вытащил пробочку, высыпал на ладонь зерна, взял одно губами... Постоял, прислушиваясь к боли, и, повернувшись, медленно побрел обратно: домой. Теперь ветер ерошил волосы - не надо лбом, над затылком... Наверное пошел лечь.
"Наденьте шапку, простудитесь", хотелось мне сказать - как тогда. "Постойте немного, не торопитесь, пусть утихнет боль", хотелось мне сказать, как столько раз я говорила на прогулке. "Простите меня"! хотелось мне сказать. "Я не имела права судить вас; я, на которую никогда не кидались собаки, я, которая никогда не видела деревянной бирки на ноге мертвеца... Простите меня! Вы не желаете обратно: туда, на лесоповал, в шахты. Второй раз! Ваша повесть - ваш бессильный щит, ваша ненадежная ограда... Простите меня! Один инфаркт у вас уже был - болезнь дорого стоит, вам нужен заработок. А чем еще, вы, инвалид, можете заработать? Только писанием. Писанием трафаретной лжи... Простите меня! Я не имела права требовать от вас правды, я-то здоровая - и то молчу. Меня по ночам не избивали в кабинете следователя. А когда вас били, я молчала. Какое же право я имею судить вас теперь? Простите мне мою окаянную жестокость, простите меня!"
Догнать - окликнуть - сказать?
Но я сидела неподвижно, изо всех сил натягивая на колени полы своей шубы, - и он удалялся, медленно и неотвратимо.
Уходил из моей жизни.
Я впервые видела его спину, его походку. Могучие плечи и слабо ступающие, словно подгибающиеся ноги. Медленно, неверно ступают ноги, шатко несут все его крупное тело: широкие плечи и большую голову...
Мне жалко было его, - и себя было жалко, и всех. "Родина моя, Россия", подумала я чьей-то чужой строкой. Его медленные плечи скрывались за деревьями. Еще можно нагнать, окликнуть, попросить прощения, он еще тут, мы еще вместе...
Прощай, прощай!
...В сумерках, не в силах переносить свою чужую комнату, я снова вышла пройтись. Ни мороза, ни снега. Оттепель. Тает. Липкая грязь под ногами. Я вернулась, надела калоши и все-таки, хлюпая, пошла в рощу. В наш дом. Там снег лежал по-прежнему, но пахло сыростью. Громко кричали галки. Кругом шептало, капало, трудилось. Сугробы осели; их темная поверхность вся в каких-то ямках, в ноздрях. Роща сегодня неопрятная. Снег на ветках разложен небрежно, грязными клоками - словно вата на уже надоевшей рождественской елке. "Смывает наши старые следы - подумала я - вот и хорошо". Я чуть не упала, поскользнувшись на склизком коме земли. Одна нога увязла. Я с трудом вытянула ногу и отшвырнула от себя липкий ком.