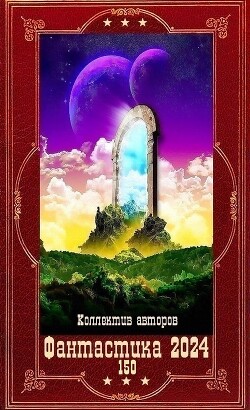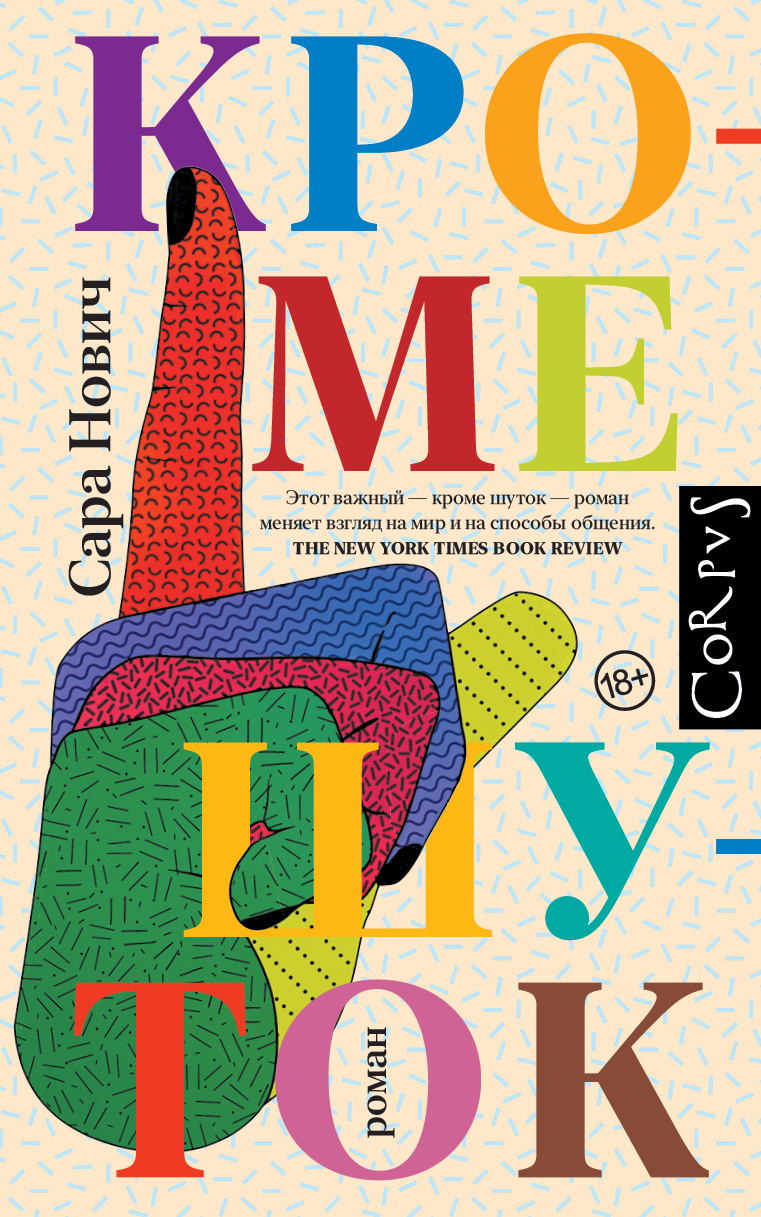не обошлось без журналистов – особой породы людей, которых я до сих пор не могла раскусить. Чужаки, которые считают себя выше всех и вся, а потом, встречая окровавленных детей, отстраняются и прикрываются камерой.
– Мы не выбирали, воевать или нет, – говорила я. – Просто иначе нам было не выжить. Все это – тоже наша родина.
На слайдах девочки казались будто не от мира сего – как дикие животные, схваченные на сафари, – но мы на деле не такая уж диковинка. Вспоминая собственную винтовку, я представляю не фактическую огневую мощь, а тяжесть, как я взваливала ее на свой хлипкий костяк. Как лямка натирала плечо. И как ритмичная отдача механизма чуть ли не щекотала живот, если я стреляла от бедра.
В отличие от детишек из Сьерра-Леоне, которые тоже вели свою войну в тот год, хоть и на другом континенте, нас не похищали, не пичкали наркотиками до бессознательности, чтобы мы могли убивать, хотя с тех пор, как все кончилось, я иногда жалела, что вину свалить не на что. Никто не отдавал нам приказов, мы стреляли по солдатам ЮНА из выбитых окон по собственной воле, а потом спокойно резались в карты и бегали наперегонки. И хотя я научилась вытеснять оружие из будничных мыслей, разговоры о нем всколыхнули во мне кое-что, чего я от себя не ожидала, – тоску. Как бы ни было противно оружие сидевшей передо мной блеклой публике, для многих из нас оно стало синонимом юности, с тем же налетом ностальгии, которая окрашивает детство любого. Но я знала, что, как ни крути, я не смогу словами объяснить, почему мне спокойней с винтовками, чем в любом нью-йоркском небоскребе.
Вместо этого я пустила в ход прагматизм, чтобы мои слова помогли хоть кому-то.
– Вам следует знать, что продовольственная помощь не добирается до людей, которым она предназначена. Там, где мы жили, не было миротворцев, и четники крали пайки, предназначенные гражданским. Когда вы сгружаете еду и уходите, то все равно что кормите врага. У нас оружие было, но у них его было больше. Только огневая мощь решает, кто будет сыт.
В конце концов я ощутила поблизости тепло чьего-то присутствия и поняла, что это Шэрон вернулась и ждет, когда я закончу.
– Спасибо за внимание, – сказала я.
На этот раз аплодисменты прозвучали уверенней – либо всех увлек мой рассказ, либо обрадовало то, что я закончила. Шэрон сжала мне плечо, а затем переключилась на свой доклад о сербских концентрационных лагерях. Я окинула взглядом мальчишек из Африки, их хронически припухшие глаза – то ли терли постоянно, то ли плакали, то ли от кокаина, – скрывали за собой некую неопознанную трагедию. Я вернулась на место и вздохнула с облегчением, что выступила первой. Но когда дошло до фотографий с братскими могилами, я выскользнула через боковую дверь, и меня стошнило в горшок с каким-то цветком. Всю оставшуюся презентацию я пропустила – не хотелось обнаружить знакомые лица.
Миновав парадный двор комплекса ООН – пустынную тундру из бетона и зачехленных на зиму фонтанов, – я вышла за ворота. Мы с Шэрон договаривались после мероприятия сходить пообедать, но, по моим прикидкам, до конца оставалось еще около часа, если мальчикам тоже дадут слово, а я уже была не в силах выносить ни это место, ни воспоминания, которые оно во мне разбередило. Я кое-как перебежала Первую авеню и взобралась по ступенькам в сторону Тюдор-виллидж. Придется погулять неподалеку, иначе не успею быстренько вернуться. На самом деле, осенило меня, я не столько из-за обязательств перед Шэрон пришла, сколько ради шанса поговорить хоть с кем-то, кто даже отдаленно знал меня в Хорватии. Вдруг ей было что рассказать мне о тех, кого я там бросила.
На исходе зимы воздух был еще морозный, но так хотя бы меньше тошнило. На Манхэттене я всегда могла отвести душу, в безопасности среди всех этих зданий и улиц, наводненных людьми, жизнь у которых, может быть, запутана не меньше моего. Что касалось университета, я скорее выбирала город, а не учебное заведение. Из американцев, которых я приноровилась звать родителями, в колледж не ходил ни один, и у меня было крайне смутное представление, на кого я хотела выучиться. Поэтому, за неимением других критериев, я вспомнила Загреб – проулки и трамваи, свободу действий и маневренность, следствие городской компактности, – и нацелилась на Нью-Йорк. Но теперь, когда я шла по Сорок четвертой, осматривая этот незнакомый уголок Манхэттена, мне было не по себе. Утица как будто принадлежала совсем другому городу и была совсем не похожа эстетически и функционально на Вест-виллидж, где я все время пропадала: чистые тротуары, скудно населенные людьми в галстуках и начищенных кожаных туфлях, черные машины с личными водителями и дипломатическими номерами по обочинам. Я миновала вереницу офисов программ ООН и здание ЮНИСЕФ – названия, в которые я в детстве по ту сторону океана вкладывала столько надежды, теперь мало что для меня значили.
Я зашла в бакалейную лавку за пачкой мятных леденцов. Роясь в карманах куртки в поисках мелочи, я увидела, как на экране телефона мигнуло уведомление – пришло сообщение от Брайана.
«Утра, солнце. Куда убежала?»
Врать мне не хотелось, так что я ничего не ответила и сунула мобильник обратно в карман. Мы с Брайаном встречались уже год, но о том, кто я на самом деле, он понятия не имел. Как и остальным сокурсникам в колледже, ему я говорила, что родилась в Нью-Джерси.
Поначалу я не сомневалась, что, оставив прошлое в тайне, все сделала правильно. Можно было окунуться в студенческую жизнь без прежней тоски, поджидавшей на каждом углу. Какое-то время все шло по плану. Я нашла пару друзей, встретила Брайана, гуляла допоздна, курила травку, пила, танцевала, а домой возвращалась с радостно распахнутыми глазами, зачарованная огнями города. Мало-помалу в этом месте, не запятнанном фантомами прошлого, я приучалась жить обычной жизнью. А потом, в начале третьего курса, рухнули башни.
Я тогда пришла к восьми утра на пару по химии и травила шутки о таблице Менделеева с товарищами по лабораторной, как вдруг увидела в дверях профессора из соседнего класса. Она вошла, даже не постучавшись.
– Хэнк, – сказала она, – мне надо кое-что тебе показать.
Она стала рыскать по ящикам в столе доктора Рейда, а он стоял и возмущенно за ней наблюдал. Нащупав пульт, она дрожащей рукой навела его вверх. В телевизоре, настроенном на входной видеосигнал,