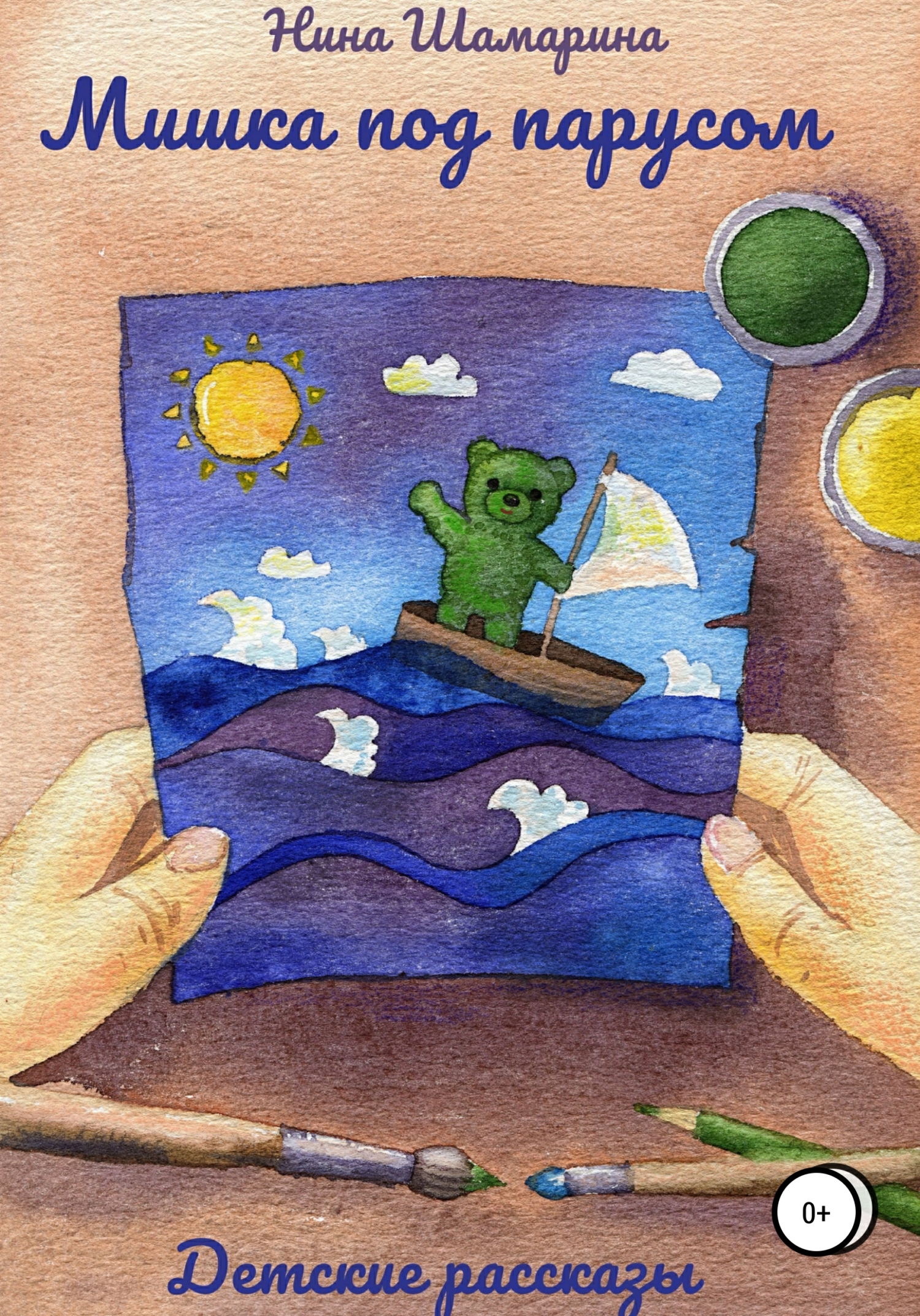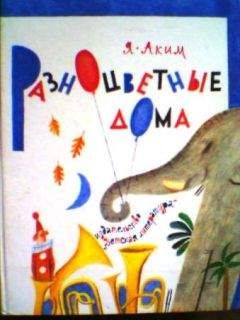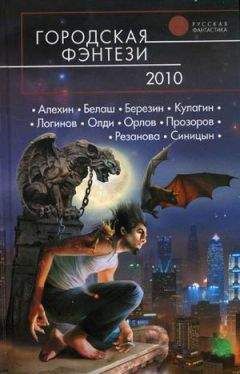хорошо у меня. На работу устроюсь, дай срок. Да не пью я, мам, с чего ты взяла? Пиво же!
Примерно через два года Людмила уговорила сына поехать трудником в Высоцкий монастырь в Серпухове. Говорили, что у иконы «Неупиваемая чаша» самые замшелые алкоголики исцеляются, даже если не верят. А уж коли в монастыре пожить, и всякий раз к иконе прикладываться, больше к пьянству возврата никогда не будет.
Людмила сделала всё честь по чести: позвонила в монастырь, попросила благословления у самого главного священника. Сам он, разумеется, не ответил, но пришла смс-ка: можно привозить, желательно трезвого, три дня оплатить за гостиницу, как паломнику, а дальше – жить и питаться бесплатно, но все послушания исполнять и трудиться во славу Божию.
Ехать уговорились во вторник. Конечно, Людмила просила и умоляла сына не пить, хотя бы с утра назначенного дня. Приехав на вокзал к условленному часу и сына не дождавшись ни через час, ни через полтора, полетела домой. Витька бодрствовал, но принял, похоже, уже изрядно.
– Давай, мам, завтра поедем, – спросил он весело, косясь на стол, на котором стояла бутылка пива, совсем-совсем недавно открытая: ещё бежали к горлышку мелкие пузырьки, ещё стекали капли по запотевшему боку.
Людмила к такому готова: алкозельцер, бутерброды, минералка. Размешивала, заставляла пить, пихала голову сына под кран. Хорошо, что уважения к матери последнее не потерял, почти не сопротивлялся. Поехали. В электричке до Серпухова спал, в автобусе по городу зло хмурился, значит, трезвел.
Охранник на входе запер в сейф паспорт, телефон и деньги на обратную дорогу («Вдруг, выгонят, никого ждать не будут, сам домой поедет», – сказал он) и отвёл Виктора в небольшой домик у входа – гостиницу для паломников. Зашлось у Людмилы сердце, пока сын уходил, не оглядываясь. Как в тюрьму.
И убеждала себя: для его же блага! Но ныла душа: «Не слишком ли я с ним круто?»
И вот теперь стояла Людмила под крышей грохочущей от дождя остановки, не чувствуя ни малейшего облегчения. И сына не спасла, и перед Амирамом стыдно. А уж теперь-то как признаться? Вагон времени прошёл, и нате вам: сын у меня, Мир, да ещё и пьющий. И деньги ему таскаю, и из милиции его вызволяю, и теперь в монастырь отвезла, с последней надеждой.
И решила Людмила: если сын за ум возьмётся (ой, как хотелось в это верить!), признается Амираму во всём. Упадёт в ноги и не встанет, пока не простит за враньё и лукавство. А ежели не простит (Людмила такое вполне допускала, при его щепетильности и педантичности в мелочах, извинит ли такое безобразие в отношениях?), уйдёт Людмила. Вернётся в свою квартиру, будет с сыном жить. Значит, судьба такая.
И не заметила Людмила, как то, что раньше за радость принимала – с сыном жить – теперь ей наказанием обернулось.
Ещё сегодня утром, выползая из-под руки мужа, любуясь им и жалея (а Людмила жалела его, понимая, что эти несусветная тщательность и сдержанность во всём не дались ему просто так от природы, а возникли и окрепли от одиночества и бесприютности), невозможным счастьем согревалась. Она звала его «Мир» – случайно ли? Весь мир замкнулся на нём. И каждый день, как гладкая бусина в длинном-длинном янтарном ожерелье, наполнялся солнцем и блаженством.
Но чем дальше уезжала Людмила от дома, чем глубже проникали в неё заботы и тревоги сегодняшнего дня, тем всё более отдаляясь, покидало её это счастье. И вот теперь, кто она? Мать, потерявшая живого сына, стоит на пустой остановке. Шарашит по железу дождь, и кажется, что солнце никогда не выглянет.
***
Амирам часто задумывался, как его угораздило жениться на Людмиле? Пышная, розовощёкая, с неуправляемым буйством светлых вьющихся волос – ничем, ничем абсолютно она не напоминала маму. Да, чистюля, ещё какая; но её смех, её почти неумолчное щебетание так не вязались с молчаливостью мамы и самого Амирама, что должно непременно раздражать, но – нет, не раздражало! Не сказать, что ему очень нравилось, но Амирам так быстро привык к способности Людмилы всё делать вслух, что если она замолкала – беспокоился: здорова ли, всё ли в порядке?
И вдруг, когда они прожили вместе уже больше трёх лет, Амирам понял, в чём главная притягательность Людмилы, схожесть с его матерью. Поздним зимним вечером, когда Амирам лежал в кровати, а Людмила досматривала сериал на маленьком телевизоре на кухне, он, закрыв глаза, развлекал себя бесконечной игрой «в слепого»: пытался понять по почти неслышным звукам, что делает Людмила. Вот тихонько звякнула чашка, и с мягким шипением полилась в неё минералка. Вот резко всхлипнул кухонный диванчик – Людмила присела на него, оторопев от поворота сериального сюжета. Но вот телевизор выключен, погашен на кухне свет, и Людмила идёт к нему по тёмному коридору. И в тот самый миг, не открывая глаз, Амирам увидел её сквозь сомкнутые веки, сквозь смежённые ресницы! Жена светилась в темноте белёсым светом ясно и выпукло. Он видел её! Вспомнилось не к месту «луч света в тёмном царстве», и всё стало на свои места: чистая, ясная, светлая…он сказал бы «святая», но испугался такой смелой мысли и отогнал её прочь. Об этом же говорил когда-то ему отец, видя свет, исходящий от мамы, и это свечение делало похожими таких разных, таких любимых Амирамом женщин.
Теперь, когда Людмилы не стало, когда стихли все звуки в квартире, вопреки несмолкаемому шуму улицы, соседских скандалов, утреннего чайника, Амирама вновь укрыла чёрная-чёрная бархатная темнота, наперекор дневному свету или включенной к ночи люстре. До тех пор, пока он не увидел сон.
До встречи с Людмилой Амирам снов не видел. Но Людмила так подробно и увлекательно рассказывала свои сны, что Амирам, как будто ими, снами этими, от неё заразился, и нет-нет, видел какие-то неясные пятна и смутные тени.
А сегодня вдруг сон увидел, да такой отчётливый, что в первую минуту, проснувшись, не мог прийти в себя, озираясь и не понимая даже, где он находится.
***
Работу Виктору дали несложную. Утром, в пять часов он должен перенести небольшой мешок с мукой для просвирок из кладовки на кухню. Загвоздка состояла лишь в том, что перед каждой из дверей нужно остановиться и прочесть молитву. И в молитве-то всего десять слов (Господи Иисусе Христе сыне Божий, спаси и помилуй мя, грешного!), но запомнить её никак не удавалось, приходилось, придерживая мешок, тащить из кармана бумажку и читать по ней.
Скудная и редкая трапеза, неудобная кровать не доставляли ему ни облегчения, ни особых страданий. Стоя на утренней службе, он постоянно отвлекался, уносясь мыслями вон из храма и вообще