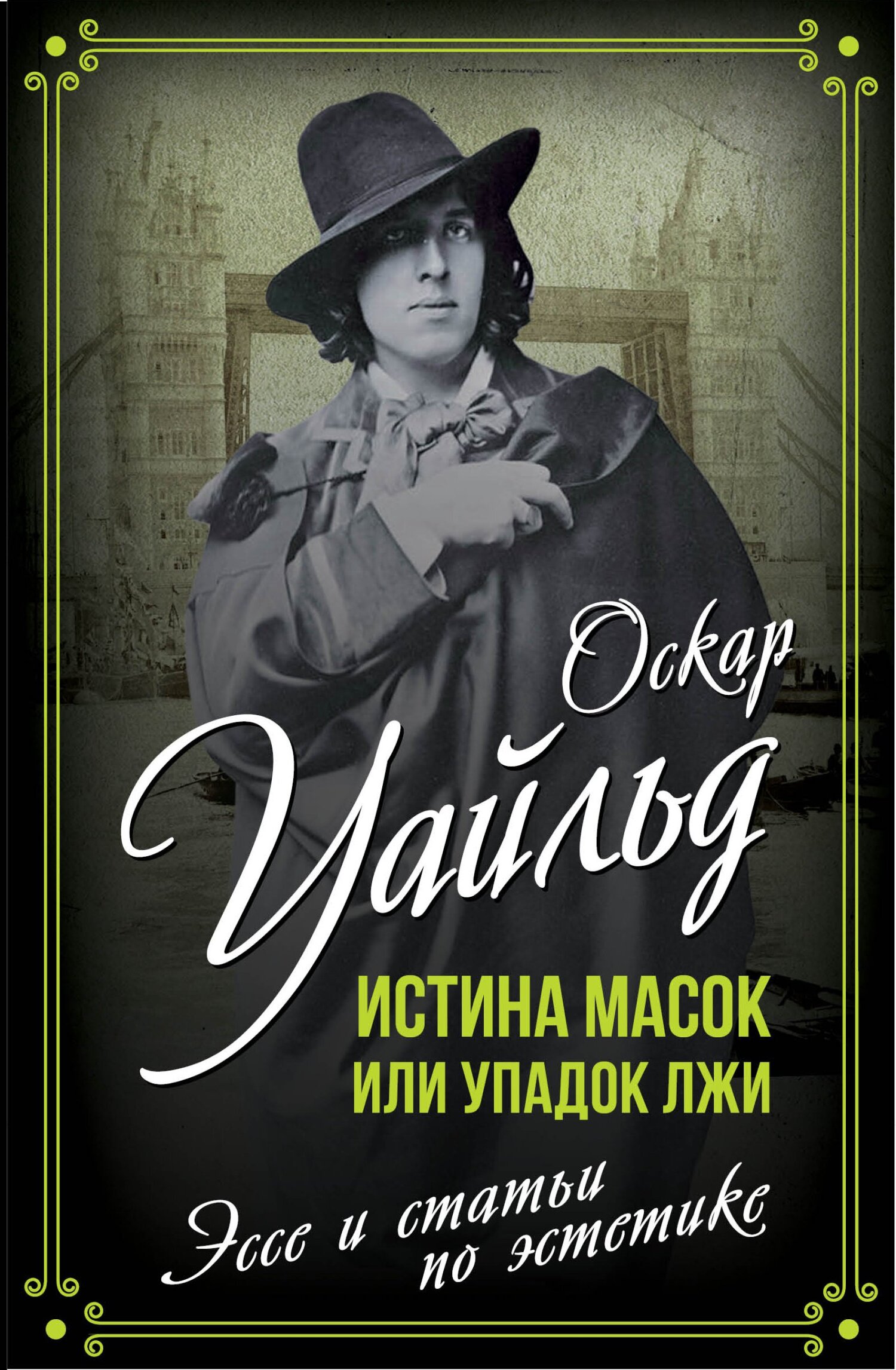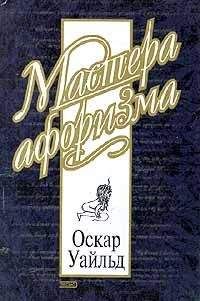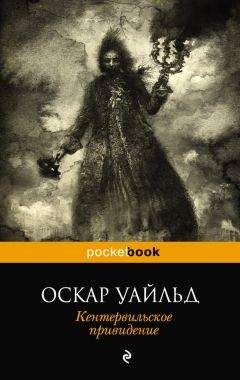прохожие, «нежно ступающие по сверкающему воздуху», вдруг чувствовали, что новое влияние прошло через их жизнь, и мечтательно или с чувством странной и острой радости возвращались к своим домам, к дневному труду, брели, быть может, сквозь улицы города к лугам, посещаемым нимфами, где юный Федр купал свои ступени, и там, лежа на мягкой траве, под громадными, вздыхающими от ветра платанами и цветущей agnus castus [72], начинали думать о чудесах красоты и, охваченные непривычным благоговением, погружались в молчание. В те дни художник был свободен. В речной долине брал он собственными пальцами тонкую глину и маленьким деревянным или костяным орудием придавал ей такую изысканную форму, что люди дарили ее своим мертвецам, как игрушки. Мы и до сих пор в пыльных гробницах вдоль желтых скатов Танагры находим их рядом с бледным золотом и бледным кармином, все еще украшающим губы, и волосы, и одежды покойников. На стене, покрытой свежей штукатуркой, закрашенной светлым суриком или смесью молока и шафрана, художник рисовал фигуру, попирающую усталой пятой пурпуровые поля с белыми звездами златоцветника, или Поликсену, дочь Приама, «на чьих опущенных веках отразилась вся Троянская война». Или хитроумного Одиссея, привязанного тугими веревками к мачте, чтоб мог он слушать, не соблазняясь, песни сирен, блуждающего по светлым волнам Ахерона [73], где призраки рыб мелькают над каменистым дном. Или показывал нам персиян в кафтанах и митрах, бегущих от греков при Марафоне, или галеры, сталкивающиеся медными носами в Саламинской бухте [74]. Серебряным стилетом и углем рисует он на пергаменте и на полированной кедровой доске. Он разводит воск в оливковом масле и этим воском пишет по слоновой кости и по бледно-розовой терракоте и снова сгущает его при помощи каленого железа. Дерево, и мрамор, и полотно становятся чудесными, когда его кисть скользит по ним. И жизнь, увидав свое собственное изображение, умолкала и не дерзала говорить. Конечно, вся жизнь, от купцов, сидевших на базаре, и до закутанных в плащи пастухов, валявшихся на холме, принадлежала ему, художнику, вся, начиная от нимфы, таившейся в лавровой роще, и фавна, играющего в полдень на свирели, и кончая королем, которого рабы несли на своих оливковых плечах, в длинном паланкине с зелеными занавесками, опахивая его павлиньими опахалами. Мимо художника проходили все мужчины и женщины с радостью и печалью на лице. Он следил за ними, и их тайны переходили к нему. Сквозь формы и краски снова воссоздавал он мир.
Он также владел и всеми прикладными искусствами. Он держал драгоценный камень над вращающимся диском, и аметист превращался в пурпуровое ложе Адониса, и на поверхности сардоникса, испещренного жилками, мчалась Артемида со стаей псов. Из золота ковал он розы и вязал из этих роз запястья и ожерелья. Из золота ковал он гирлянды для шлемов победителей, или пальмовые ветви для тирских одежд, или маски для усопших царей. На оборотной стороне серебряных зеркал он гравировал Фемиду, несомую своими Нереидами, или томимую страстью Федру со своею наперсницей, или Персефону, измученную воспоминаниями, украсившую свои волосы маками. Горшечник сидел в своей хижине, и, подобная цветку, из-под бесшумного колеса вырастала в его руках ваза. Он украшал ее основание, ее бока и ручки узором изящных оливковых листьев, или ветками акинфа, или извилистыми и гребнистыми волнами. Потом черной или красной краской рисовал он на ней юношей-борцов, или бегущих рыцарей, в полном облачении, с причудливыми геральдическими щитами и чудесными забралами, склонившихся из колесниц, подобных раковинам, ко вздыбившимся коням, или богов, пирующих, творящих чудеса, героев победных или страждущих. Порою тонкими пунцовыми линиями по белому фону чертил он томного жениха с невестой и парящего над ними Эроса, Эроса, подобного ангелам Донателло, маленькое смеющееся существо с лазоревыми или золотыми крылышками. На внутренней стороне он вписывал имя своего друга. «Прекрасный Алкивиад» или «Прекрасный Хармидес» [75]рассказывает нам повесть его жизни. Или же по краю широкой плоской чаши рисует он пасущихся оленей или отдыхающего льва — вообще все, что ему вздумается. На тонком флаконе для духов смеется, наряжаясь, Афродита. Вокруг винной бочки Дионис со свитой обнаженных менад пляшет голыми ногами, облитыми виноградным соком, а сатироподобный старый Силен валяется на вздутых шкурах и потрясает магическим копьем, увенчанным колючей еловой шишкой, увитым темным плющом. И никто не мешает художнику в его работе. Ничья безответственная болтовня не отвлекает его. Никакие взгляды не тревожат его. На берегах Иллиса [76], говорит где-то Арнольд, не было Хигинботамов [77]. На берегах Иллиса, мой дорогой Гильберт, не было скучных художественных конгрессов, разносящих провинциализм по провинциям и обучающих бездарность, как надо кричать. На берегах Иллиса не было назойливых художественных журналов, где добросовестный тупица болтает о том, чего не понимает. На поросших тростником берегах этой речки не чванился нелепый художник, захвативший монополию судейских кресел тогда, когда ему следовало бы оправдываться, сидя на скамье подсудимых. У греков не было художественных критиков.
Гильберт. Эрнест, вы очаровательны, но взгляды у вас страшно испорченные… Боюсь, что вы прислушивались к беседам старших. Это вообще опасная вещь, а если вы дадите ей выродиться в привычку, вы убедитесь, что для умственного развития это убийственно. Что же касается современного журнализма, не мое дело его защищать. Его существование оправдывается великим законом Дарвина о выживании низших организмов. Меня интересует лишь литература.
Эрнест. Но какая разница между журнализмом и литературой?
Гильберт. Ну! Журналистика — это то, чего нельзя читать, а литература — то, чего не читают. Вот и все. А что касается вашего утверждения, будто у греков не было художественных критиков, то это совершеннейший вздор, уверяю вас. Было бы справедливее сказать, что греки были народом художественных критиков.
Эрнест. Неужели?
Гильберт. Да, народом художественных критиков. Но я не хочу разрушать ту очаровательную фантастическую картину об отношении эллинских художников к духу своего времени, которую вы набросали. Давать точное описание того, что никогда не случалось, есть не только настоящее занятие историка, но и неотъемлемая привилегия каждого культурного, способного человека. Еще меньше стремлюсь я говорить по-ученому. Ученый разговор — это или притворство невежды, или исповедь праздного ума. А так называемые поучительные беседы есть просто глупая попытка еще более глупых филантропов обезоружить справедливое озлобление преступных классов. Нет, позвольте мне сыграть вам какую-нибудь безумную алую пьесу Дворжака. Бледные фигуры на стенах ковров смеются над нами, а тяжелые веки моего бронзового Нарцисса уже смежаются сном. И, пожалуйста, не будем вступать в глубокомысленные споры. Я слишком хорошо знаю, что мы родились в такой век, когда серьезно относятся только к