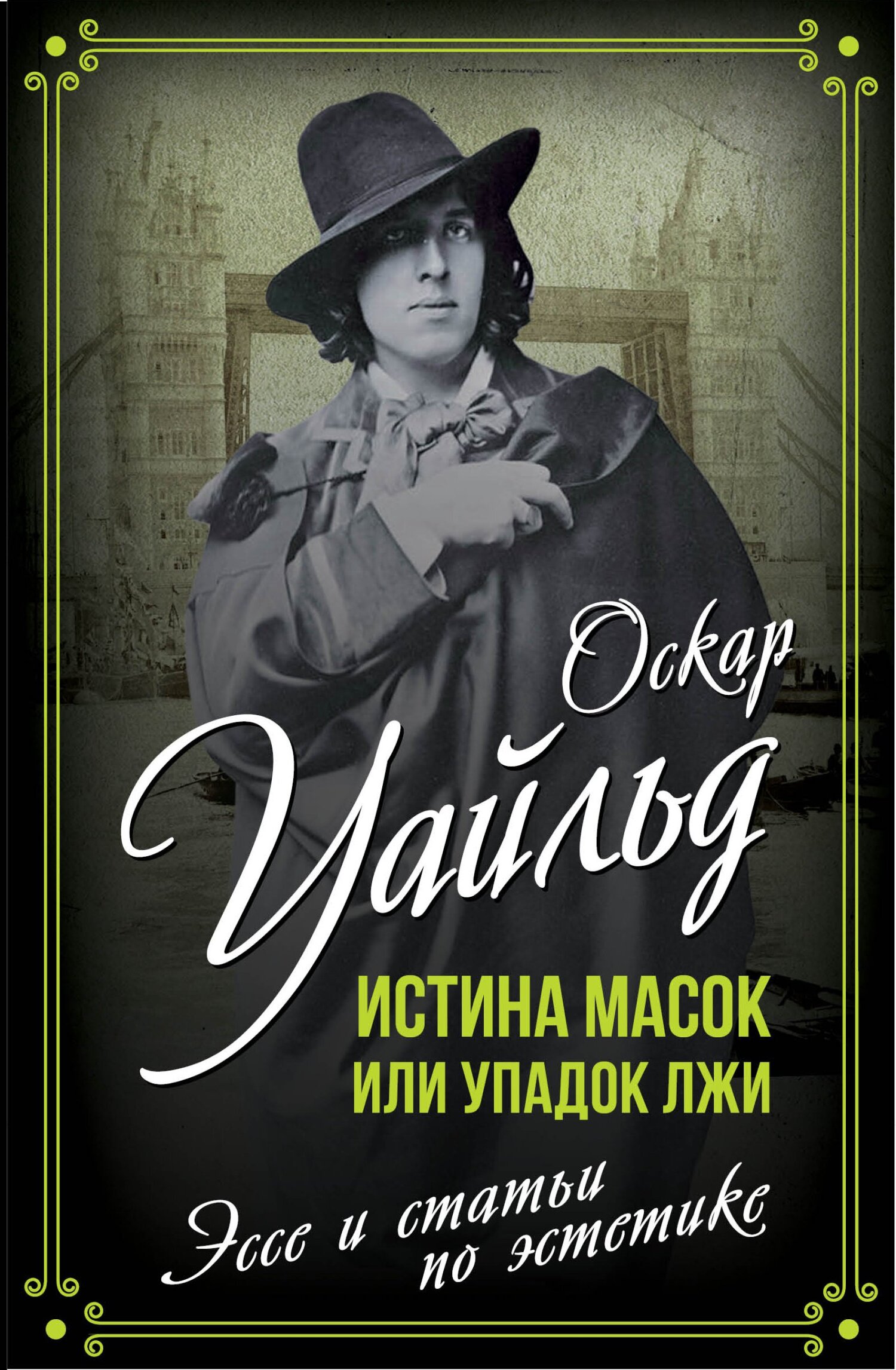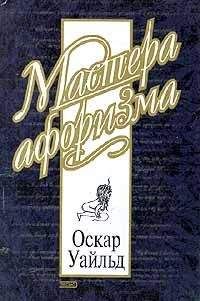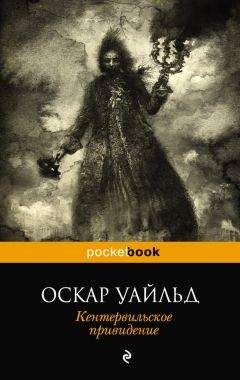искусства, его значение для культуры, его роль в образовании характера — все это раз навсегда установлено Платоном. Но в этом трактате искусство рассматривается не с моральной, а с чисто эстетической точки зрения. Конечно, еще Платон разобрал многие определенные художественные вопросы, как, например, значение единства в художественном произведении, необходимость тона и гармонии, эстетическую ценность внешности, отношение между изобразительными искусствами и внешним миром, отношение между вымыслом и действительностью. Он первый пробудил в душе человека желание, которому мы и до сих пор не могли найти удовлетворения, желание познать связь между красотой и истиной, место, которое занимает красота в моральном и интеллектуальном порядке вселенной. Проблемы идеализма и реализма, как он выдвинул их, могут многим показаться безрезультатными в той метафизической сфере абстрактного существования, где он поставил их, но перенесите их в сферу искусства — и вы увидите, что они все так же жизненны и полны значения. Возможно, что, именно как критик красоты, Платон остается для нас живым и что, дав другое имя сфере его умозрений, мы найдем новую философию. Но Аристотель, подобно Гёте, берет прежде всего искусство в его конкретных проявлениях, берет, например, трагедии, рассматривает материал, при помощи которого она создана, то есть ее язык; ее содержание, то есть жизнь; ход ее внутренней работы, то есть действие; условия, в которых она развертывается, то есть театральное представление; логическое ее построение, то есть фабулу, и наконец заключительный эстетический призыв к чувству красоты, нашедшему себе воплощение в страстной жалости и благоговении. Это очищение и одухотворение природы, которое он назвал «катарсис», по мнению Гёте, исключительно эстетического, а отнюдь не морального свойства, как думал Лессинг. Вдумываясь прежде всего в то впечатление, которое вызывается произведением искусства, Аристотель берется анализировать его, исследует его источники, смотрит, что его породило. Как физиолог и психолог, он знает, что правильность функции зависит от энергии. Обладать способностью к какой-нибудь страсти и не удовлетворять ей — значит обречь себя на ограниченность и несовершенство. То мимическое зрелище жизни, которое дает нам трагедия, очищает грудь от многих «опасных веществ» и, доставляя высокие и достойные объекты для упражнения наших эмоций, очищает и одухотворяет человека. Больше того, оно не только одухотворяет его, но и посвящает в благородные чувствования, о которых иначе он мог бы ничего не знать, и мне иногда кажется, что в слове «катарсис» заключается определенный намек на обряд посвящения, а порой даже хочется думать, что это-то и есть его единственное и верное толкование. Я, конечно, даю только беглый очерк его книги. Но вы видите, какой это законченный образец эстетической критики. Ну кто, кроме грека, мог бы так отлично проанализировать искусство? Прочтя этот трактат, нельзя больше удивляться тому, что Александрия так сильно предавалась художественной критике, что уже тогда люди с художественным темпераментом изучали все вопросы стиля и приемов, спорили о больших академических школах живописи, как, например, о школе Сициона [80], пытавшегося сохранить благородные традиции античных образов, или о школах реалистов и импрессионистов, ставивших себе целью воспроизведение современной жизни, или же обсуждали идеалистическое начало в портрете, или художественную ценность эпических форм для такой эпохи модернизма, как та, в которую они жили, или, наконец, рассуждали о сюжетах, пригодных для художника. У меня, конечно, есть основание опасаться, что и в то время нехудожественные темпераменты тоже занимались литературой и искусством, так как и тогда раздавались бесчисленные обвинения в плагиате, а подобные обвинения исходят или из бесцветных губ импотентов, или из грубых уст тех, кто, не имея никакой собственности, надеется создать себе репутацию богатства воплями, что их обокрали. Уверяю вас, Эрнест, что греки также болтали о своих живописцах, как и мы сейчас, у них также были свои вернисажи и дешевые выставки, ремесленные и художественные цехи, и движение прерафаэлитов, и движение в сторону реализма, и греки также читали лекции об искусстве, и писали статьи об искусстве, и выдвигали своих историков искусства, и археологов, и все прочее. Ведь даже содержатели странствующих театральных трупп, отправляясь тогда в поездку, брали с собой театральных рецензентов и платили им очень приличное жалованье за писание хвалебных рецензий. Право, всем, что в нашей жизни есть модернистского, мы обязаны древним грекам. Всеми же анахронизмами мы обязаны Средним векам. Это греки дали нам всю систему художественной критики, и о тонкости их художественных инстинктов мы можем судить по тому, что самой тщательной их критике подвергся, как я уже сказал, язык. Сравнительно с языком, материал, которым пользуется живописец или скульптор, очень скуден. В словах есть музыка, такая же сладкая, как звуки виолы или лютни, краски, живые и богатые краски, которые пленяют нас на венецианских и испанских картинах, пластические формы, столь же уверенные и определенные, как те, что проявляются в мраморе и бронзе, но сверх всего этого есть еще у них, и только у них, страсть, и одухотворенность, и мысль. Если бы греки ничего не критиковали, кроме языка, то и тогда они все-таки остались бы величайшими художественными критиками мира. Познать законы высшего искусства — значит познать законы всех искусств.
Но я вижу, что луна скрылась за желтоватым, как сера, облаком. Из-за бурой гривы облаков блестит она, точно львиный глаз. Она боится, что я буду говорить вам о Лукиане и Лонгине, о Квинтилиане и Дионисии, о Плинии, и Фронтонии, и Павсании [81], обо всех тех, кто в античном мире писал и говорил по вопросам искусства. Ей нечего бояться. Я устал от этого набега в глухую, унылую бездну фактов. Мне ничего не осталось больше, кроме божественного «единовременного наслаждения», другой папироски. Папиросы прелестны по крайней мере тем, что всегда оставляют нас неудовлетворенными.
Эрнест. Попробуйте мои, они недурны. Я получаю их прямо из Каира. Единственное, что есть путного в наших атташе, это то, что они снабжают друзей отличным табаком. Так как луна спряталась, поговорим еще. Я согласен признать неверным то, что говорил о греках. Они были, как вы это доказали, народом художественных критиков. Я признаю это, и мне немного досадно за них. Потому что творческий дар гораздо выше критического. Нельзя даже сравнивать их.
Гильберт. Их противоположение есть вещь совершенно произвольная. Без критической способности нет художественного творчества, достойного этого названия. Вы только что говорили о тонком чувстве выбора, об изысканном инстинкте подбора, при помощи которых художник воплощает перед нами жизнь и придает ей мгновенное совершенство. Ну хорошо, это чувство подбора, этот тонкий такт по отношению к тому, что надлежит отвергнуть, это и есть, конечно,