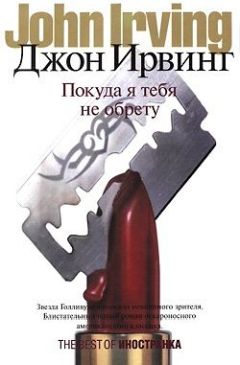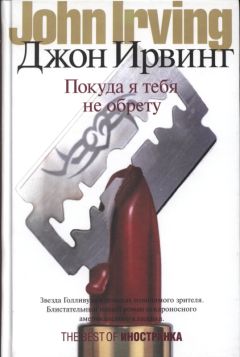пока Ханнеле и Ритва не закончат. Он предложит им зайти куда-нибудь поговорить, этого будет достаточно. Джек решил, что нет ни малейшего резона отказываться от возможности провести в Хельсинки ночь с беременной тренершей по аэробике. Как выяснится впоследствии, резон был, и еще какой, но Джек пошел на поводу у мощного инстинкта, который знаком стольким мужчинам, а именно желания быть с женщиной определенного типа, которое запрещает разуму подумать о ней не как о типе, а как о конкретном человеке с конкретной историей, в нашем случае – разобраться, что она за личность, тренер по аэробике по имени Мария Лиза.
Они назначили свидание, при этом им пришлось сходить к стойке в зале и попросить бумаги, их все видели. Мария Лиза написала Джеку свое имя и номер мобильного, в ответ получила бумажку от Джека и очень удивилась – какой такой Джимми Стронах? Джек объяснил ей, что останавливается под именами своих персонажей в фильмах, еще не вышедших на экран.
Он покинул спортзал и первым делом отправился в порномагазин за журналом «Беременные женщины», который затем отнес в номер. Картинки в журнале одновременно пугали и возбуждали его.
Уходя из отеля в церковь, Джек выбросил мерзкий журнальчик в мусорное ведро – не у себя в номере, а рядом с лифтом. Впрочем, такие картинки так просто из памяти не выкинешь, они преследуют тебя долгие годы, иногда всю жизнь; позы этих беременных женщин и прочее, что они выделывали на фотографиях, остались с Джеком до самой смерти, наверное, они пойдут с ним и в ад, где, если верить Ингрид My, ты ничего не слышишь, зато видишь тех, кому сознательно сделал больно. Они все время о тебе шепчутся, а ты, бедный, ни черта не можешь понять!
В тот день в Хельсинки Джек понял, каким, вероятно, будет его личный ад. Целую вечность он будет наблюдать, как беременные женщины занимаются сексом в неудобных позах. Они будут говорить о нем, а он не будет их слышать. Он проведет целую вечность, гадая, о чем они беседуют.
Джек нашел, что купол Церкви в скале изнутри похож на перевернутый вок. Скала, собственно, служила стеной и выглядела очень по-язычески, казалось, купол – это яйцо, торчащее из кратера, оставленного метеоритом. Вокруг церкви стояли жилые дома, похожие друг на друга, как близнецы, – массовые постройки для среднего класса тридцатых годов.
Органист сидел так, что ему были видны левые ряды скамей. В центре «сцены» стояли скамьи для хора; хор играл важную роль. Органные трубы из меди выглядели очень современно на фоне темного и светлого дерева корпуса. Окруженная камнем кафедра проповедника напомнила Джеку фонтанчик-поилку.
Было часа два дня, Джек сидел и слушал Ханнеле и Ритву, Ритва сидела к нему боком, на скамье перед мануалом, а Ханнеле – лицом, расставив ноги и зажав виолончель между ними. Кроме Джека, их слушали еще несколько человек, они тихо вошли, а потом так же тихо ушли. Джек понял, что женщины сразу его узнали – наверное, даже ждали (видимо, их предупредила дама из академии): Ханнеле просто кивнула и улыбнулась, Ритва пристально взглянула и тоже улыбнулась.
Играли они далеко не только церковную музыку, да и церковная была крайне необычная. Джек со своими канадскими корнями узнал мелодию Леонарда Коэна «Если ты захочешь» – он впервые слышал ее в переложении для органа и виолончели. Американский опыт позволил ему узнать Ван Моррисона, «Когда Бог озаряет меня Своим светом». Ханнеле и Ритва играли блестяще, даже Джек сразу понял, что совместное исполнение для них – сродни дыханию. Он очень зауважал их – хотя бы за то, что они сумели пережить травму, нанесенную им мамой, и остаться вместе.
При Джеке они отрепетировали и две традиционные вещи – «Воспоем славу Иисусу» и «Приди, приди, Иммануил». «Иммануил» – гимн для рождественского поста, особенно популярный в англиканской и шотландской традиции, но вовсе не в финской; так потом объяснили Джеку Ханнеле и Ритва. Просто оба гимна очень любил Уильям.
– Он нас и научил, – сказала Ритва. – Нам плевать, что сейчас не ноябрь.
Они отправились пить чай в просторную уютную квартиру Ханнеле и Ритвы, располагавшуюся в одном из домов-близнецов близ церкви. Девушки соединили в одну две квартиры, оттуда открывался вид на купол Церкви в скале. Как и церковь, квартира была обставлена по-современному – почти не было мебели, по стенам черно-белые фотографии в металлических рамках. Обе женщины вели себя весело и дружелюбно. В свои почти пятьдесят лет они не пугали Джека, хотя в четыре года он их очень боялся.
– Ты – первая женщина, у которой я видел небритые подмышки, – сказал Джек Ханнеле.
Он умолчал, что помнит цвет тех волос – тоже русые, но темнее, чем у нее на голове, и про родимое пятно у пупка.
Ханнеле рассмеялась:
– Обычно все запоминают родимое пятно, а не подмышки, Джек.
– Пятно я тоже помню, – сказал он.
Ритва не изменилась – такая же невысокая и пухлая, длинноволосая, красивая, она носила исключительно черное, как и тогда.
– Я помню, как ты заснул и как до этого изо всех сил пытался не заснуть! – сказала она ему.
Он объяснил им, что думал тогда, будто они пришли к Алисе за разбитым сердцем потому, что спали с папой.
– С Уильямом?! – воскликнула Ханнеле и пролила чай.
Ритва едва не свалилась под стол со смеху.
Этим двум лесбиянкам было так хорошо друг с другом, что они без задней мысли флиртовали и с Джеком, и с другими юношами – они были совершенно уверены, что их никак нельзя понять превратно.
– Впрочем, что я удивляюсь, – сказала Ханнеле. – Уильям ведь говорил нам, что твоя мать способна внушить тебе что угодно, любую ложь. Ритва и я, надо сказать, ее недооценили – она была готова зайти очень далеко.
Ханнеле объяснила, что их роман с Ритвой тогда только начинался и они не давали друг другу никаких обещаний, и вот тогда-то с ними и встретилась Алиса; девушки решили, что переспят с нею