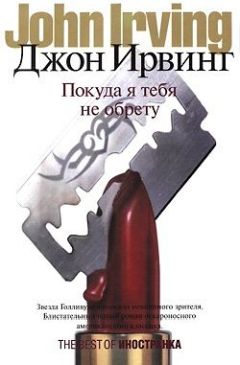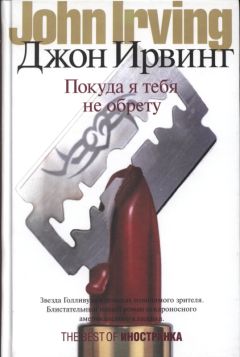не было, – сказала Ритва. – Это еще один гимн, которому нас научил Уильям, он его играл в старом соборе Святого Павла.
– «О сладость Тела Твоего», вот как он называется, – сказала Ханнеле и стала напевать. – Я только мелодию знаю, слов нам твой папа не записал.
Мелодия показалась Джеку знакомой, наверное, он слышал ее или даже пел в Святой Хильде. Еще он помнил, что мама пела этот гимн в Амстердаме в квартале красных фонарей. Если папа играл его в Шотландии, значит он или англиканский, или шотландский епископальный.
Они едва не забыли поговорить про старика-«мясника», но тут Ханнеле случайно указала на татуировку у себя на бедре и сказала:
– Для Сами Сало очень неплохая работа.
Тогда Джек пересказал Ханнеле и Ритве жуткую историю, приключившуюся с ним и мамой ночью в отеле «Торни», когда Сами ломился к ним в дверь, а равно и про то, как его жена, куда моложе Сами, хамила Алисе в «Сальве» и объясняла, что она отбирает у мужа клиентов.
Ханнеле снова покачала головой (любопытно, что ее короткие курчавые волосы даже не дрожали при этом).
– Жена Сами умерла задолго до того, как вы с мамой приехали в Хельсинки, Джек, – сказала Ритва. – Официантка из «Сальве» – его дочь.
– Ее зовут Минна, – добавила Ханнеле. – Она дружила с Уильямом, он любил женщин постарше. Я всегда считала, что они странная пара, но у Минны была тяжелая жизнь, почти как у твоего папы. Она родила вне брака, и ребенок умер маленьким, у него был порок дыхательных путей.
– Джек, пойми, твой папа не искал себе любовниц. Я думаю, он был все еще влюблен в датчанку, – заметила Ритва. – Минна была для него утешением. Я думаю, он и на себя так смотрел – мол, я уже ни на что не годен, кроме как быть утешением кому-то другому. Знаешь, это старая христианская идея – найди кого-нибудь, кому плохо, и поддержи его.
Агнета Нильсон, учившая Уильяма по классу хора в Стокгольме, а Джека по классу катания на коньках, была из тех, что постарше. Агнете, наверное, тоже было плохо, – в конце концов, у нее же слабое сердце.
– Смотри, Джек, мы ведь с Ритвой музыканты, да преотменные. Твой папа тоже был в первую и главную очередь музыкантом, – сказала Ханнеле. – Я живу, как мне хочется, но я не считаю, что имею на это право потому, что я – человек искусства. Уильям тоже не считал, что из этого что-то следует. Но твоя-то мамаша по какому праву делала то, что она делала? Она считала, что ей все должны, что ей все позволено! Да с какой радости, хотела бы я знать!
– Ханнеле, эта блядь ему все-таки мать, ты что, – укоризненно проговорила Ритва.
– Если тебя бросили, плюнь и иди дальше, – заявила Ханнеле Джеку. – А твоя мамаша изготовила из пустяка целый бразильский телесериал!
– Ханнеле, ну что ты! – сказала Ритва. – Джек, мы видели все твои фильмы. Мы даже представить себе не могли, что ты вырастешь нормальным, здоровым человеком!
Джек, однако, вовсе не чувствовал себя нормальным и здоровым. Он все время думал о Минне, официантке с толстыми руками, дочери Сами Сало. Как у нее дрожали руки! Она, оказывается, была подругой папы!
Добрая мама сумела отравить даже это – дружбу между мужчиной и женщиной, которым плохо. Ханнеле считала, что Минна и Уильям не спали друг с другом, Ритва была противоположного мнения, но какая разница? Алиса сумела убедить Сами Сало, что его несчастной дочери угрожают еще бо́льшие несчастья, ведь Уильям бросит ее и предаст, так что татуировщик спал и видел, как Алиса покидает Хельсинки, – он знал, что Уильям последует за ней.
Сами Сало и в самом деле проходил по категории «мясников», но его бизнес ничуть не страдал из-за Алисы. Ханнеле и Ритва объяснили Джеку, что у его матери татуировались только студенты, завсегдатаи бара при отеле «Торни», а даже самые богатые из них не могли себе позволить тратить много денег на татуировки. Вот моряки – другое дело, они сорили деньгами в тату-салонах, но все гурьбой шли прямиком к Сами, об Алисе даже не думая.
Джек узнал, что Кари Ваара был путешественник – постоянно давал концерты за границей, поэтому Уильям де-факто служил при Йоханнексенкиркко главным органистом; он обожал и саму церковь, и орган, и своих учеников по Академии Сибелиуса. Лучшими среди них были Ритва и Ханнеле.
В Амстердаме у Уильяма учеников не будет – нагрузка в Аудекерк слишком тяжелая, времени на занятия не остается.
– Это так много времени занимает, настройка органа? – спросил Джек.
– Что?!
Джек рассказал им, какую лапшу повесила ему на уши добрая мама – что папа в Амстердаме смог найти только презренную работу настройщика. Орган, мол, и правда гигантский, как и говорил Кари Ваара, но настроить его никак нельзя.
– Боже, Джек, Уильям в этом смысле был совершенно безнадежен – он гитару не мог как следует настроить, не то что орган! – воскликнула Ритва.
– Он и играть-то в Аудекерк согласился только при условии, что церковь наймет дополнительно настройщика, – сказала Ханнеле.
– У них был человек, который настраивал орган перед концертами, но твой папа настоял, чтобы взяли еще одного, и этот второй настраивал инструмент каждый день, – добавила Ритва.
– Каждую ночь, – поправила ее Ханнеле.
Тут-то Джек и понял, кто был этот «дополнительный» настройщик – тот самый толстощекий юноша по имени Франс Донкер, «вундеркинд», как говорила мама, который посыпал пудрой мануальную скамью, чтобы легче было по ней ездить (она, как и орган, была гигантская). Тот самый, который однажды ночью играл Джеку, маме и прочим шлюхам, страдающим от бессонницы, а должен был настраивать орган.
– Говорят, что тот, кто играет в Аудекерк, играет для двух типов людей – для туристов и для проституток! – сказал Кари Ваара Алисе с Джеком.
Ваара очень гордился Уильямом, поведали Джеку Ритва и Ханнеле, говорил, что Уильям его лучший ученик за всю жизнь.