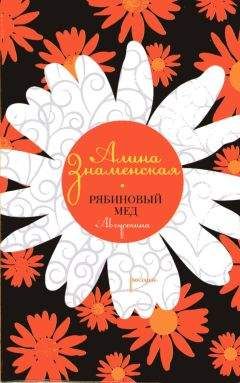— Вот, скажите, пожалуйста, — начал Федорченко, — я хочу задать вам один вопрос. Вы не можете мне объяснить, зачем мы живем?
Я с удивлением посмотрел на него. На его лице было задумчивое выражение, чрезвычайно для него неестественное, настолько неожиданное и нелепое, что оно мне показалось столь же необыкновенным, как если бы я вдруг увидел усы на физиономии женщины. Но это было лишено даже самой отдаленной комичности, было совсем не смешно, и мне стало не по себе. Я подумал, что не хотел бы остаться с этим человеком вдвоем, и невольно оглянулся; все столики вокруг нас были заняты, рядом с нами какой-то очень хорошо одетый пожилой мужчина, с чуть-чуть съехавшим налево париком, рассказывал двум дамам, как будто только что снятым с витрины модного магазина и даже сидевшим в манекенно-искусственных позах, как он с кем-то разговаривал. — Представьте себе, — говорю я ему, — мой бедный друг… Он мне говорит, — но позвольте… Я отвечаю: послушайте…
— Не знаю, — сказал я, — одни для одного, другие для другого, а в общем, я думаю, неизвестно зачем.
— Значит, не хотите мне сказать?
— Милый мой, я об этом знаю столько же, сколько вы. Он сидел против меня с нахмуренным и напряженным лицом.
— Вот люди живут, — сказал он с усилием, — и вы, например, живете. А скажите мне, пожалуйста, к какой точке вы идете? Или к какой точке я иду? Или, может, мы идем назад и только этого не знаем?
— Очень возможно, — ответил я, чтобы что-нибудь сказать. — Но вообще, мне кажется, не следует себе ломать голову над этим.
— А что ж тогда делать? Это так оставить нельзя.
— Слушайте, — сказал я с нетерпением. — Жили же вы, черт возьми, до этого совершенно нормально, работали, питались, спали, теперь вот женились. Что вам еще нужно? Философию вы бросьте, она нам не по карману, понимаете?
— Васильев говорит, — сказал Федорченко и оглянулся по сторонам, что…
— У Васильева скоро начнется белая горячка, — сказал я, — его слова нельзя принимать всерьез.
— Но раз он что-то думает, значит, то, что он думает, существует?
Я пожал плечами. Федорченко замолчал, обмяк и уставился неподвижно в пол. Я расплатился с гарсоном и попрощался с ним.
— А? Что? — сказал он, поднимая голову. — Да, да, до свидания. Извините, если побеспокоил.
Я шел и думал о том, что теперешнее состояние Федорченко объяснялось, по-видимому, в первую очередь ежедневным влиянием Васильева. Это была, во всяком случае, внешняя причина неожиданного пробуждения в нем какого-то совершенно ему до сих пор не свойственного интереса к отвлеченным вещам. Он не мог верить тому, что рассказывал Васильев; и все, что говорил ему этот пьяный и сумасшедший человек о борьбе темного начала со светлым и о любимых своих убийствах, он воспринял по-своему; в нем вдруг возникли сомнения в правильности того бессознательного представления о мире, в котором он жил до сих пoр. Он не умел этого объяснить; непривычка и неспособность разбираться в отвлеченных понятиях не позволили бы ему рассказать о том, что в нем происходило. "Как опухоль в душе", говорил он потом. Но по мере того, как выяснялась полная невозможность для него найти ответ на эти сомнения, необходимость этого ответа становилась все повелительнее. Он не был способен ни к какому компромиссу или построению иллюзорной и утешительной теории, которая позволила бы ему считать, что ответ найден, он не мог ее создать. Вместе с тем она была нужна ему как воздух и он смутно понимал, что с той минуты, когда у него возникла первые сомнения, перед ним появилась угроза его личной безопасности. Он был похож на человека с завязанными глазами, который идет по узкой доске без перил, соединяющей крыши двух многоэтажных домов, идет спокойно, не думая ни о чем, — и вдруг повязка спадает с его глаз и он видит рядом с собой чуть-чуть голубоватое, качающееся пространство и едва ощутимое стремление вниз справа и слева, — как две воздушных реки по бокам.
Через несколько дней я получил от него письменное приглашение прийти обедать, и хотя я понимал ненужность этого визита, я все же пошел, подчинившись обычному моему любопытству ко всему, что меня не касалось. Они сидели за столом — Васильев и Федорченко. Сюзанна отворила мне дверь и встретила меня с такой неожиданной радостью, что я не удержался и спросил ее, пока мы были в передней:
— Что с тобой? Ты, может быть, принимаешь меня за клиента?
— Кто-то, кого я знаю, — бормотала она, не слушая меня, — и который не сумасшедший, какое счастье!
В столовой на камине стояли часы, вделанные в мрамор и показывавшие половину десятого, хотя было восемь, и рядом с часами лежала мраморная пантера густо-зеленого цвета; над ней, на стене, в золоченой раме — большая фотография, изображающая Федорченко и Сюзанну в день свадьбы; они стояли в середине снимка, окруженные закругляющимися контурами ретуши, похожими на края фотографических облаков. Большой стол был утвержден на одной ножке, сделанной в форме опрокинутого и усеченного конуса, — что очень стесняло Васильева, который прятал своя длинные ноги под стул. На стенах было еще несколько олеографий с голыми красавицами розово-белого цвета.
Васильев поздоровался со мной, сохраняя свой значительный вид. Мой приход прервал на минуту его речь, но он тотчас же ее возобновил. Иногда он закидывал голову назад, и тогда становились видны желтоватые белки его глаз, закатывающиеся как у мертвеца. Он рассказывал об очередном заговоре против какого-то правительства в Сибири, во время революции, сообщая по привычке точнейшие данные _ капитан Рязанского полка, высокий блондин, красавец, с незапятнанным послужным списком; его отец, происходивший из духовной среды, Орловской губернии, преподаватель математики в старших классах сначала такого-то реального училища, потом… и т. д. Рассказав это по-русски, он тотчас же переводил все на французский язык для Сюзанны, которая никогда в жизни не слышала ни о существовании Рязанского полка, ни о преподавателе математики, ни об Орловской губернии, ни о каком бы то ни было русском правительстве в Сибири. Васильев говорил, точно читал по книге, и даже сохранял повествовательный стиль, характерный для исторических романов с большим тиражом:
— Заговорщики собрались в условленном месте. Ровно без четверти одиннадцать раздался стук в дверь и в комнату быстрыми шагами вошел капитан Р. "Господа, — сказал он, — время действия наступило. Наши люди готовы".
И сейчас же переводил это для Сюзанны.
— Раздался шум отодвигаемых стульев…
Я внимательно смотрел на этого сумасшедшего человека. Он то закрывал, то открывал глаза и рассказывал монотонным голосом, изменявшимся в тех местах, где была вводная речь. По-французски он говорил очень чисто и точно, с небольшим акцентом, с некоторой излишней медлительностью интонаций, и вел рассказ обычно в прошедшем совершенном. Федорченко напряженно слушал его. Сюзанна ерзала на стуле и смотрела на меня отчаянными глазами. Она воспользовалась минутой, когда Васильев повернулся к ее мужу, чтобы прошептать мне:
— Я больше не могу! не могу!
Но остановить Васильева было невозможно. Я несколько раз прерывал его и начинал разговор о другом; он умолкал, но пользовался первой паузой, чтобы возобновить свой бесконечный рассказ, который должен был кончиться с его смертью. Я ушел поздно вечером. Мы вышли вместе с Васильевым, который поднял воротник пальто и надвинул шляпу на лоб. Я не мог не улыбнуться:
— В таком виде вы похожи на героя из романа плаща и шпаги, — сказал я ему.
— Вы бы не шутили, — ответил он, — если бы знали, какой опасности я подвергаюсь ежедневно.
Я знал эту фразу. Я знал, что никакие убеждения на этого человека не подействуют, но все-таки сказал, что, по-моему, его опасения напрасны, что, не причиняя никому вреда, не занимаясь политической деятельностью и не будучи видным революционером или контрреволюционером, он вряд ли рискует больше, чем всякий другой смертный. Он терпеливо выслушал меня. Мы уже дошли до гостиницы, в которой он жил. Начинал накрапывать дождь.
— Эмиссары, — сказал он, — которые…
И я ощутил непреодолимую тоску. Я стоял недалеко от освещенного подъезда его гостиницы и смотрел на беспрерывно теперь струившийся дождь, а он держал меня за рукав и все говорил об эмиссарах, о контрразведке, о смерти какого-то великого князя в Москве, об одном из помощников Савинкова, о преследовавшем его, Васильева, левантинце, смуглом человеке с черной бородой, которого он последовательно видел в Москве, Орле, Ростове, Севастополе, Константинополе, Афинах, Вене, Базеле, Женеве и Париже. Наконец мне удалось поймать его влажную от постоянной внутренней дрожи руку, пожать ее и, извинившись, уйти, — и я дал себе слово в дальнейшем избегать встреч с ним и с Федорченко и забыть, если возможно, об их существовании.
Но через две недели после этого, утром, когда я еще был в постели, раздался резкий звонок. Я надел купальный халат и туфли и пошел отворять дверь. Я думал, что это один из обычных стрелков, которые приходят просить деньги, ссылаясь на безработицу и расстроенное здоровье, и уходят, получив два франка; я знал, что мой адрес и моя фамилия фигурировали на одном из последних мест того таинственного списка неотказывающих, который ходил по рукам большинства стрелков. Он существовал во множестве вариантов; некоторые адреса, преимущественно богатых и щедрых людей, стоили очень дорого, другие дешевле, иные просто сообщались, в виде дружеской услуги. О том, что я занимал одно из последних мест, я узнал от старого, добродушного пьяницы, который становился словоохотлив после первого стакана вина.