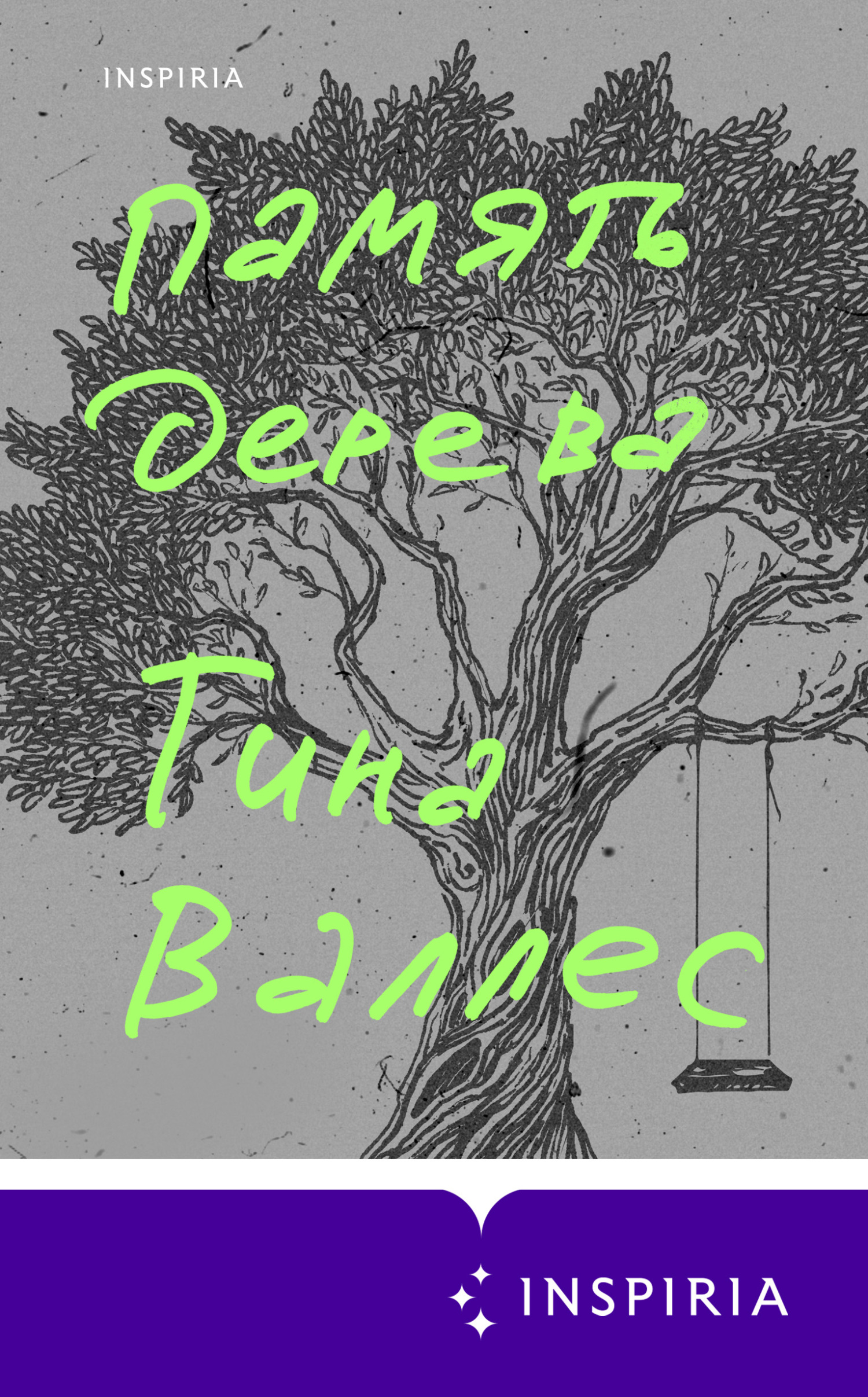себя узнаю. И всех вас узнаю. Бабушку, маму, тебя, папу. Это мое первое сознательное усилие. И с каждым разом мне это дается все труднее.
Сидя на кровати, я смотрел на наше отражение в зеркале на двери. Меня было почти не видно, одни глаза у дедушкиного подбородка. Он тоже поглядел на нас и крепко сжал в своей ладони мою руку:
– Отсюда я тебя уже не вижу.
Не нужно мне больше рассказывать сказки
Дедушка все чаще шарахается от зеркал. Облако бабушкиного аромата с каждым днем все больше теряет свою сладость. Мама с утра до вечера разговаривает с нами, пристально глядя всем и каждому в глаза, как будто это вовсе не мы, а какие-то ее особенно туповатые ученики. Папа без устали пытается нас всех приободрить: решает с дедушкой кроссворды, готовит вместе с бабушкой замысловатые ужины, маму обнимает еще чаще, чем обычно, а мне каждый вечер готов рассказывать сказки про самолеты.
– Наверное, не нужно мне больше рассказывать сказки. Я сам буду читать.
– Молодец.
– Только если мне вдруг захочется послушать сказку…
– Я тут как тут.
– Жаль, может так случиться, что тогда я уже и вправду буду совсем большой.
– Конечно, может, но сказки любят и малыши, и взрослые.
– Я знаю. Но сейчас я хочу прочитать книгу басен, которую мне подарил дедушка. Он говорит, что теперь уже не может мне их больше рассказывать, что строчки вылетают у него из головы.
– Зато какой уйме басен он уже тебя научил!
– Всем, какие помнил…
Папа встал и погладил меня по голове, глядя так, словно видит впервые.
– Никогда не переставай быть ребенком, что бы ни случилось. Я и сам при каждом удобном случае становлюсь маленьким.
Так он меня снова развеселил.
Для того чтобы я не разучился быть ребенком, родители отправили меня на пару дней погостить к Мойсесу. Сперва я с опаской отнесся к этой затее.
– А как же дедушка?
– Дедушка никуда не денется.
– А когда я вернусь?
– Жан, ты уезжаешь на два дня. Когда ты вернешься, все будет по-прежнему.
И папа с мамой поглядели на меня так пристально, что мне стало некуда деваться от такого количества глаз, и я пошел к себе в комнату собирать сумку.
– Книгу басен не бери.
– Ну мама…
– Жан, ты же не будешь там читать. Поиграешь, отдохнешь.
И я подумал, что мама, наверное, тоже была бы рада отправиться к Мойсесу погостить, побыть ребенком, ничего не читать, поиграть, отдохнуть… Подальше от дедушки.
Мы хотели поиграть в мяч, но начался такой сильный дождь, что мама Мойсеса не выпустила нас на улицу.
– Мы могли бы и тут поиграть.
– Ну ты загнул, здесь же тесно!
– А разве ты забыл, что мой дедушка играл в мяч на маленькой площади, в два раза меньше этой столовой?
– Угу…
– И вдобавок посередине росло дерево.
– Не было там никакого дерева.
– Нет же, там было дерево…
Мама Мойсеса стояла на пороге с целой охапкой настольных игр, но при этих словах присела на подлокотник дивана и приготовилась слушать дальше.
– Дерево? На той самой малюсенькой площади?
– Расскажи, Жан.
– Там была верба, дедушкина верба. Но вот как-то раз пошел сильный дождь…
– Деревья любят дождь!
– Дай Жану сказать, Мойсес.
– В Вилаверде разразилась ужасная гроза. Дождь лил много часов подряд, сверкали молнии, гремел оглушительный гром. И вдруг одна из молний ударила…
– В ту самую малюсенькую площадь? Не может такого быть!
Мама Мойсеса положила руку ему на плечо, чтобы он замолчал, и я рассказал им про молнию, раздробившую дедушкину вербу. Я рассказал им все не торопясь, в мельчайших подробностях, как волшебную сказку, совсем как дедушка когда-то.
Давным-давно шел такой же проливной дождь. Дедушке было одиннадцать лет, и он смотрел на струи ливня через окно спальни, скорее всего, из-за того, что мама тоже не пустила его играть на улицу. Тут из глубины черной тучи в мгновение ока выросла ослепительно сияющая ветка и протянулась к дедушкиной вербе. Дерево на миг охватило яркое свечение, немедленно сменившееся запахом горелой древесины, клубами дыма и раскатом оглушительного грома, от которого у дедушки, который был тогда мальчиком, под ногами задрожал пол.
Он опрометью бросился во двор, прыгая через две ступеньки по все еще сотрясавшейся лестнице. Никто не успел его остановить. Он выскочил на площадь и тут же промок до нитки. Он крепко обхватил свою раненую вербу, ее расколовшийся надвое ствол, половина ветвей которого клонилась к земле, а другая каким-то чудом держалась в воздухе, и плакал, плакал так же безудержно, как плакало и небо над ним.
Отец выбежал за ним следом и потом до конца своих дней рассказывал, каких усилий ему стоило оторвать сына от ствола вербы: казалось, тот прирос к земле. Земля уже не дрожала, дрожал дедушка: от холода. Это случилось зимой, но дедушка снова смог выйти на улицу, только когда наступила весна. Все это время он пролежал в постели с воспалением легких, и никто так и не понял, как он, такой худенький и истощенный, смог от него оправиться.
А дедушка говорил, что его вылечила верба.
Дедушка так давно лежал в жару, что потерял счет дням. Как-то раз он услышал, что в окно его спальни кто-то стучит. Он сам не знает, как ему удалось подняться с кровати и открыть окно, он помнит только то, что ветка его вербы ждала его за стеклами и что какой-то странный ласковый ветер помог прутику сплестись с его пальцами, и нежное тепло прошло по его руке до самого плеча и наполнило грудь.
Его вылечило дерево. Удар молнии уничтожил половину его ветвей, и, потеряв устойчивость, оно в конце концов склонилось к окну его спальни. Дедушка говорит, что оно протянуло ему прутик с зелеными листьями; каждый листок был пальцем поданной руки, и он крепко за нее держался до тех пор, пока она внезапно не похолодела и не вырвалась из его ладони.
Ветер, тот самый странный ласковый ветер нежданно-негаданно остыл, распахнул настежь дверь его комнаты, и тут же прибежала мать, закрыла ставни и снова уложила сына в постель, обеспокоенно укоряя.
Но верба вернулась к нему. Она постучалась в оконное стекло, на этот раз с такой силой, что оно разбилось, и